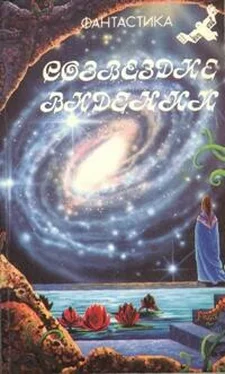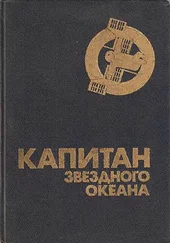— И всегда будет интересно, пока я жив, — отвечал я, сразу почувствовав фальшь в таком ответе.
— Я расскажу тебе. Сегодня же. Но не здесь, — продолжала горбунья.
— Где же?
— У Зуба Шайтана.
…Вы, Борис Тимофеевич, тонкий знаток психологии, потому поймете меня как никто другой… Живет человечек. Совершает поступки, дурные и благие. Геройствует. Льстит сильным, презирает, слабых. Подличает. Ниспровергает. Заискивает. Плетет сети ближнему. Попадает в ямы, выкопанные персонально для него. Почему он живет именно так, не по-другому? Почему мечется меж светом и тьмою, почему не придерживается только добра, только истины, как религиозные подвижники, будь то святые, исповедующие христианство, магометанство, конфуцианство, буддизм? Потому что человек уверен:, о дурном не узнает никто, дурное сотворяется втихую. Тем паче дурные мысли — кто их услышит, запишет, обнародует? Вот вы высказывались, даже в печати, гордитесь, мол, тем, что ни единого кляузного письма за всю творческую жизнь не посылали наверх, в инстанции, как теперь говорят. Законная гордость, не возражаю, я и сам чист по этой линии. Но мысленно-то, мысленно, черт побери, не раз и не два сочинял я бумажонки таковые! И врагам своим — тоже в уме! — лютейшие казни измысливал, лютейшие, и к тому же по ничтожному поводу. Потому как слаб человек от первого дня творения. Слаб и грешен. Но кабы ведал весь род человеческий вкупе и каждый из нас в отдельности, что тайное сразу становится явным, объявляется, проявляется, как на фотобумаге, что скрыть ничего нельзя, — о, совсем иначе зажилось бы мировому сообществу.
К чему клоню?.. Единственной фразой: «У Зуба Шайтана» — припечатала насмерть меня горбунья. Показала все ничтожество тайных наших с Рамвайло замыслов и ухищрений. Она видела меня насквозь, как видит препаратор амебу под микроскопом. Да, насквозь — честолюбивого, мятущегося, жалкого, обласканного властителями людских судеб и ими же втоптанного в грязь.
— Очнись, страдалец, — улыбнулась Мария. — И скажи: согласен ты. сегодня, после обеда ехать со мною к Зубу? Или утратил былую отвагу?
Я сказал:
— Согласен, Мария. Надо только заправиться на выезде из города, у начала Кульджинекого тракта.
— Предлагаю выехать около трех, — сказала Мария. — У тебя есть еще время поспать. Пойду готовить провизию в дальнюю дороженьку. Приятных сновидений, страдалец!
Я оставил сестре записку, чтобы не беспокоилась. Сообщил, что поехал в горы на два-три дня. Солнце висело еще высоко, но жара начинала спадать. Мария примостилась сзади. До Иссыка молчала, на все мои расспросы о житье-бытье отвечала нехотя, односложно. Но за Иссыком попросила:
— Можно, я оставлю тебе записи моих песен? Как подарок в лучший день твоей жизни, помнишь, я тебе его обещала перед тем, как ты ускакал в Россию? С той поры, как мы расстались, ты много лгал, петлял, изворачивался. И был наказан небесами. Но страданиями своими ты рассеял карму. Светлоликий великан побеждает.
Она протянула мне две кассеты. Я тут же вставил одну в магнитофон и наконец услышал чарующее:
— Э-сан-то-ма-а де-вин-тегми-ни-о-о…
Мария пела до самого моста через Тас-Кара-Су. За мостом я повернул резко вправо, мотор зарычал на крутом подъеме. Мария выключила магнитофон. Стемнело. Над горами затеплился язычок луны, пока и вся она не воссияла древней красою. Когда мы проезжали мимо Клондайка (он оставался метрах в двухстах справа), Мария попросила остановиться и некоторое время сидела, закрыв левой рукою глаза. Потом сказала:
— Через час твоего Литовца оглушат в купе. Ударом кастета по голове. И вышвырнут на полном ходу. Не доезжая двадцати трех километров до станции Тюлькубас. А золото ваше заберут.
— Кто оглушит Рамвайло? — заорал я в лицо отшатнувшейся горбунье.
— Те, кто еще летом выследил вас здесь. Трое молодых мужчин-наркоманов и их подружка с гитарою, тоже наркоманка.
— Чушь! Не верю твоим бредням!
— При чем тут вера или неверие. Мне так высветилось.
— Где же логика? То лучший день моей жизни, то убьют приятеля! И почему ты мне утром не сказала о готовящемся покушении?
— Утром и я не знала. Мне только что высветилось.
Я газанул в ярости, проклиная и себя, и горбунью, и Зуб Шайтана, но присмирел от мысли, ожегшей мозг: «Значит, не расстанься я с Рамвайло, — и лежать бы нам вместе под откосом? ..»
Вот и снова зачернели слева древние развалины, снова обнажился в потоках лунного светопада Зуб Шайтана. Я погасил фары, откинулся устало на сиденье.
Читать дальше