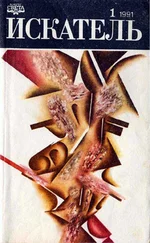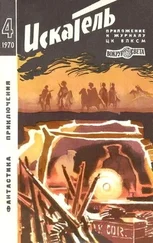Лариса огляделась, попыталась ощутить отчаяние, безвыходность своего положения. И не смогла.
Что ей, в конце-то концов, за дело до того, кто и как к ней относится? Плохо? Пусть плохо. Ни жарко ни холодно. Иное — противно ощущать себя виноватой.
Тошно стало. Она переживала вину, сознавала свою неправоту. Разве ее согласие на уговоры Бондаря случайное решение?
Разве она не радовалась, когда узнала, что Садовская не пойдет в «поле»? Разве не ясно стало ей — она одна пойдет в тайгу и сделает открытие одна? И это вопреки, казалось бы, всем прогнозам и разговорам: мол, в нынешнее время большие дела не творят одиночки. Да, не творят. Не творят. Используют опыт, предположения, догадки десятков и сотен умов, которые мыслили до них. И в этом смысле наука всегда была коллективной.
А она, она оказывалась одиночкой! Пусть у победы тысяча родственников, но все равно победитель один! Он единствен. Как ни кинь. И пусть потом, после ее имени, идет перечисление той тысячи. Она-то первая, была и останется одна. Единственная!
Только ведь она твердо рассчитывала — никто не догадается о ее глубоко тайном, подспудном, заранее определенном выборе пути! Ее переход должен был выглядеть случайностью, ничем не обоснованной. Пусть даже капризом! Пусть прихотью. Слабость можно простить, понять, объяснить.
Вот почему при мысли о прежних товарищах ощущалась тяжесть под ложечкой и ныло, ныло сердце. Ныло, словно нарывало. Так она решила сыграть в орлянку. Не с порогом Змеиным, сама с собой.
Цвиркнув, вспорхнула трясогузка и косо, будто нехотя, подалась дерганым летом, то пуская в ход крылья, то складывая их.
Пусто кругом. С опушек не слышалось трепета листьев. Кривились отражения берегов в воде перед порогом, а шум его стал вроде глуше, дальше. Оморочка будто не двигалась, и сухой лист стоял рядом, почти на том же самом месте, только хвостик черенка его повернулся в сторону скал.
Скучно… Тоскливо на реке без Сергуньки. Лишь с ним, в окружении его беззаветного обожания, Лариса ощущала покой, становилась для самой себя прежним человеком, далеким от расчетов и нудных отношений с другими людьми.
И подарок свой отняла, чтоб разбить, уничтожить даже память добрую о себе.
Никто же не переубедит, не сможет переубедить Сергуньку! Кто скажет и кому он поверит, что виновата-то во всем происшедшем сама Лариса, она одна, и никто больше!
Бедный Сергунька…
— Зачем я погнала его к инспектору? — отрешенно и вслух спросила себя. — Вот будет шуму-то!..
Так иду или не иду я на порог?
Комок под ложечкой сжался до боли. Хотелось взвыть в голос. Не видеть ни солнца, ни неба, не думать о себе самой и людях.
Лариса пошевелилась, так невмоготу сделалось ей сидеть будто прикованной.
Странно — она не увидела желтого рано облетевшего листка березы, что плыл все время рядом с лодкой. Оглянулась. Лист отстал, бабочкой, едва касавшейся воды, держался позади оморочки.
«Ветром его, что ли, отнесло? — подумала Лариса. — Да ветра нет. Ни дуновенья. Лодка-то тяжелее. Быстрее ее тащит, разгоняет течение!»
Глянула вперед — порог совсем неподалеку. Отражения скал и деревьев уж не кривились, а растягивались в зеркале вод, растягивались и тянулись по натяженной поверхности к зеву Змеиного.
В испуге Лариса подалась назад. Оморочка закачалась. Скорее вроде пошла.
Схватив весло, Лариса попыталась отвернуть лодку, направить ее к берегу. Но лодка лишь рыскнула в сторону и опять пошла прямо.
«Тянет… Тянет! Тащит на порог! Что ж я? Ведь я хотела. Сама пошла!» — билось в мозгу.
А руки как бы сами по себе гребли и гребли веслом.
— Не хочу, не хочу туда! Не хочу… ту-уда-а-а! — закричала Лариса.
Берестянка стала боком. Однако уж никаких усилий Ларисы не хватало, чтоб вывести лодку из лавины речного течения, стремительно катившегося к порогу.
Тогда в ощущении обрушившейся на нее тишины, немого отчужденного безмолвия Лариса услышала тонкий пчелиный звон лодочного мотора.
— Успел, успел Сергунька! Предупредил! Милый… — бормотала она. — Знала, не оставишь… — И поняла: она действительно все это время ждала, ждала — кто-то успеет, кто-то подойдет; не может же так быть, чтоб она сгинула.
Она, обернувшись на звук, закричала:
— Скорее! Скорей!
* * *
Федор теперь гнал моторку, не задерживаясь в заводях. Он не смотрел по сторонам в надежде увидеть сидящую где-либо на прибрежном камушке Ларису. До порога оставалось каких-то пять километров, и он уверил себя — пошла Пичугина на порог. Не могла не пойти, потому что слишком большой груз переживаний взвалила она ненароком на Сергунькину душу, издевкой было бы после этого отступить от своего страшного замысла.
Читать дальше