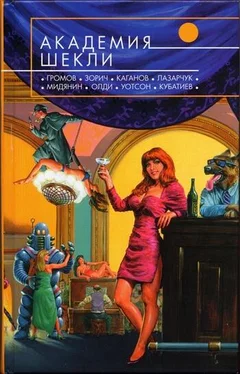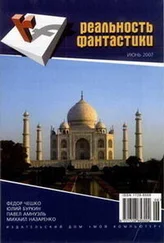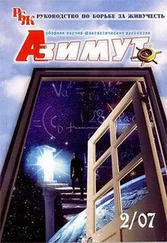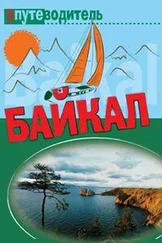Затем, спустя время, другие двуногие, что придумали поселить меня в сосудах с прозрачными стенками, называемых аквариумами, дали мне новое имя: Siredon pisciformis, иначе говоря – рыбообразный сиредон. Они думали, что я родственен протеям. И лишь через века до двуногих дошло, что я – это я. Тогда они придумали мне новое имя: Ambistoma. Но и тут не угадали, глупцы… Что поделаешь, ограниченный ум двуногих не способен отличить истинное от ложного: амбистома – не я, но тот, кто приходит за мной, чтобы жить без воды. В своем стремлении постичь непостижимое они породили ещё одно нелепое слово: неотения. Это когда меня становится много.
Двуногие не знают главного – каждый я, когда и где бы я не существовал, это всё равно – я. Всё тот же я. Я – один. Игрушек вод много, но я – один.
Я знаю всё. И я всё помню. Двуногие считают, что разум умирает вместе с телом. Возможно, что в их случае так и происходит. Но мой разум живет, пока жив хотя бы один я.
Сотнями тысяч глаз смотрю я на мир. Это мир двуногих, и созерцать его доставляет мне истинное, удовольствие. Поселив меня во множестве стеклянных сосудов, принеся меня в свои дома, двуногие предоставили мне отличную возможность для наблюдения за ними. Впрочем, они-то считают, что всё как раз наоборот, что это они наблюдают за мной. Я же в ответ лишь улыбаюсь им сквозь стекло…
Я – красив. Полупрозрачное тело, нежно-розовый оттенок кожи, большая голова в ореоле вечно вспыхивающих холодным пламенем жабр, улыбающийся рот и чёрные, бездонные глаза…
Впрочем, один чудак-двуногий, что часто приходил посмотреть на меня, утверждал, что глаза мои „…целиком заполнены прозрачным золотом, лишённым всякой жизни…“.
Я не раз разглядывал сам себя – зеркальных поверхностей в аквариумах предостаточно – но ни разу не увидел даже искорки золотого в своих глазах. Там царит только чернота, только тьма. Тьма вечности.
Однако тот двуногий написал про меня довольно недурно: „Именно это спокойствие заворожило меня, когда я в первый раз наклонился над аквариумом. Мне почудилось, что я смутно постиг его тайное стремление потопить пространство и время в этой безразличной неподвижности. Потом я понял: сокращение жабр, легкие касания тонких лапок о камень, внезапное продвижение (некоторые из них могут плыть, просто волнообразно качнув тело) доказывали, что они способны пробуждаться от мертвого оцепенения, в котором они проводили часы. Их глаза потрясали меня сильнее всего. Рядом с ними, в других аквариумах, прекрасные глаза прочих рыб, так похожие на наши, отливали простой глупостью. Глаза аксолотля говорили мне о присутствии некой иной жизни, иного способа зрения. Прижав лицо к стеклу (иногда сторож обеспокоено покашливал), я старался получше рассмотреть крохотные золотистые точки, этот вход в бесконечно медленный и далёкий мир розовых существ. Бесполезно было постукивать пальцем по стеклу перед их лицами; никогда нельзя было заметить ни малейшей реакции. Золотые глаза продолжали гореть своим нежным и страшным светом, продолжали смотреть на меня из неизмеримой глубины, от которой у меня начинала кружиться голова“. [1] Тот двуногий в конце концов сошёл с ума. Для тех, чей мозг мягок и ограничен, это просто. Он вообразил, что стал мной, и смотрит теперь на мир из глубин моего разума. Глупец, он просто не знал, что нельзя слишком пристально смотреть в глаза аксолотлю…Ещё я вижу сны. Не свои – двуногих. Мой двуногий спит тяжело. Его сны похожи на огромный аквариум, в глубинах которых царит вечный мрак. И лишь в одном месте этот аквариум освещен крохотной лампочкой. За пятнышком света трудно различить то, что твориться в таинственных толщах вод, где колышутся стебли водорослей и скользят беззвучно неясные тени.
Но вот из тьмы выдвигается страшная, аспидно-чёрная морда сома-птерохоплита. Крохотные глазки зло и враждебно глядят на источник света, губастый рот приоткрывается, дабы поглотить его. И я понимаю, что спящий разум моего двуного породил очередной фантом, очередную жестокую и жуткую химеру…»
* * *
У станции метро «Памяти жертв ГУЛАГа», бывшей «Кропоткинской», одышка вновь усадила Мендина на лавочку. Надсадно завывая и расплескивая вокруг синие отблески мигалок, в сторону набережной промчался длинный лимузин председателя Лиги демократических журналистов. Два бронированных «Хаммера» охраны, огрызаясь на встречные машины мощными «крякалками», расчищали дорогу лимузину.
Лёгкий ветерок со стороны Москва-реки не приносил свежести – бензиновый смрад и запах перегретого асфальта забивали всё вокруг. На огромном плазменном экране, вознесённом ввысь, рекламные ролики контрацептивов перемежались с нарезкой новостных сюжетов. После репортажа о встрече Хомяка с руководством Евроатлантической организации экономического сотрудничества – белозубые улыбки, заверения в долгосрочном партнерстве и верности выбранного пути – на экране возникла дикторская пара.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу