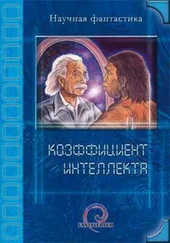— Тогда я должен буду звать вас дядей, — чрезвычайно серьезно ответил мальчик. — Чик — это домашнее имя, не для чужих.
— По рукам. Научишь играть?
Почти час Вадим Евгеньевич и Чингиз тянули разноцветные палочки, смеясь, споря, кто задел остальные, а кто нет, сосредоточенно считая очки и снова споря. Выиграть у мальчишки не удавалось.
— Дядя Вадя, а у вас много народу работает? — спросил Чик.
Хохлов хотел ответить в лоб: «Сто пятьдесят тысяч», но смутился и ответил проще:
— Много.
Но мало кто из них вспомнит обо мне через пару лет, если меня здесь все-таки достанут. Хохлов всегда чувствовал приближение опасности как зверь, только бежать дальше было некуда — и оставалось полагаться на грузинскую верность армейского друга Отара и профессионализм однокашника Лешки. Да будет так.
— А они вас любят? — спросил Чик.
Как кого они могут меня любить? Как руку дающую? Как икону? Как царя-батюшку?
— Немногие, — ответил Вадим Евгеньевич.
— А вы их?
Уже интереснее. Необъятную массу, безымянных людей у станков, в штреках, за кульманами или на палубах, немногословных водителей и язвительных секретарш, банковских операционистов с нулями в глазах и буровиков с промасленными ладонями. Я же и не знаю их толком — лишь представителей, верхушку, зеленые кончики чайных побегов, тех, кто ближе ко мне, чем к ним…
— Наверное, да.
— Когда вы полюбите каждую палочку в этой куче, — мальчик разворошил пальцем цветные шпажки, — тогда сможете выиграть.
Минное поле, вспомнил Хохлов слова Гульнары Абаевны. У каждого свое.
А на рассвете произошло землетрясение. Собственно, тряхнуло совсем слегка и всего один раз, но огромная глыба, нависавшая над входом пещерного монастыря, распавшись миллионом камней, поползла вниз. По ущелью прокатился гул, который, услышав однажды, не перепутать уже ни с чем, инфразвуковая песня нутра земли.
Поспешно одевшиеся или закутанные в одеяла отдыхающие собирались перед входом в главное здание небольшими группками и молча смотрели на завесу пыли, скрывшую южные склоны.
Чуть в стороне ото всех Чик безудержно рыдал на коленях у Гульнары Абаевны. Даже в свете серого неба можно было разглядеть, как мальчик бледен.
— Напугался? — Хохлов инстинктивно искал их в толпе, и, найдя, сразу почувствовал себя спокойнее.
Женщина отрицательно покачала головой.
— Он говорит «Цейсс»! — Чик вскинул на Вадима Евгеньевича горячечный взгляд. — А я не понимаю! Сам из дерева, ростом до неба, и нос как у Буратино. Стоит по колено в воде черной, и говорит: «Цейсс придет и все исправит». А потом уже по пояс. По шею. Он деревянный, он всплыть должен, а тонет! Я боюсь его, ма!
Гульнара Абаевна попыталась прижать Чика к себе, но он снова вырвался:
— Дядя Вадя! Вы скажите, я дёрну! Хоть желтую, хоть фиолетовую! Только избавьтесь! Только отдайте! Ламар! Ламар! Ламар! — и обвис на руках у матери.
Засуетились, забегали, на обвал уже и не смотрели…
— Моя вина, Вадим, — Отар с мрачным видом громыхнул о стол чем-то железным, завернутым в брезент.
— Ты, вааще, о чем?
Вадим Евгеньевич пребывал в состоянии серьезного намеренного опьянения. Когда Чика устроили в медблоке и вкололи успокоительное, когда Гульнара Абаевна перестала плакать, а взялась обустраивать комнатку, Хохлов счел допустимым начать необычное утро необычным образом — с двухсот пятидесяти без закуски. Чего, разумеется, оказалось недостаточно, и пришлось дважды повторять. Для уверенности в успехе далее использовалось красное сухое вино и привезенная одним из отаровских стрелков домашняя чача.
Потом Вадим Евгеньевич медитировал на балконе, наблюдая начало нового дня, и размышляя, что ж это ему не жилось в старых. За чем он гнался, к чему стремил свои помыслы. Потом, устав от собственного пафоса, ненадолго вздремнул.
И теперь, мало что понимая, смотрел на понурого Отара и пыльный сверток.
— Он там, видно, с вечера засел. Приехал с группой и отстал. Надо было тебя на виллу, четыре пулемета по углам, и на каждый шорох — без предупреждения.
— Ты о чем, старик? — голова отказывалась слушаться, впрочем, руки-ноги — тоже.
— Вот об этом, — Отар вытряхнул из брезента продолговатую черную железку. Хохлов не без труда распознал в этой неприятной штуке снайперскую винтовку с погнутым дулом и сплющенной оптикой. — Часа через три-четыре ты бы вышел на балкон и словил бы пулю. Мои ребята с инфракрасной всю ночь смотрели, да не досмотрели. Он так лежал, что кроме ствола наружу ничего и не торчало.
Читать дальше