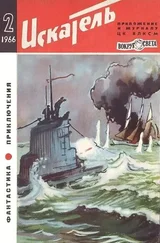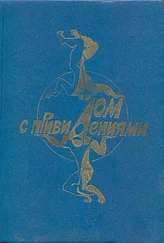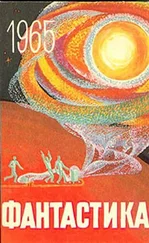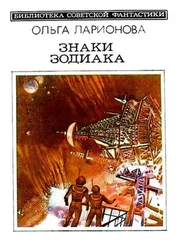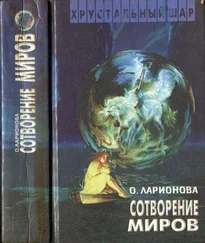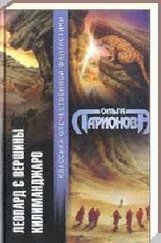Это было уже не детство, хотя нет, детство, конечно, только не самое-самое, когда фонари, а попозже, когда Лариска Салова, и только бы вспомнить, что он говорил тогда, хотя и вспоминать нечего, он сказал: "Я из твоего вшивого кадета рыбную котлету сделаю". И она засмеялась, потому что это было так шикарно сказано, вшивый-то кадет был нахимовцем, на голову выше, и пояс с бляхой, и она перестала смеяться, чтобы ему было удобнее поцеловать ее, и он сказал: "И Лымарю твоему я в рожу дам", - и снова поцеловал ее, и она сказала: "Бабушка мусор несет", - потому что было в парадной, и он ответил: "Я твоей бабушке в стекло зафингалю", - и в третий раз поцеловал ее, а больше не стал, - надоело, и вроде стало незачем...
- Дениз...
А вот это было уже совсем не детство, это было в самый последний раз, все расходились, а он мог остаться, так что ж ему было отказываться, он и остался, пьян был здорово, да и хозяйка была хороша. И он молча раздел ее, и она то ли рассмотрела его получше, то ли решила поскромничать, только вдруг завела: "Ты у меня первый настоящий..." - "Ну-ну, не завирайся", сказал он ей, и так было в последний раз.
- Дениз. Дениз. Дениз... - Это как спасенье, как заклинание, как мелом по полу - круг, отсекающий все то, что было и как было.
- Я здесь, - прозвучал из темноты ее неправдоподобно спокойный голос. - Протяни руку - я здесь.
У него похолодело внутри от ее слов, простых и ничего не значащих в обычном номинальном значении, но сейчас обернувшихся к нему всей жуткой обнаженностью единственного своего смысла. И не он ей, а она ему первая предлагала единственное средство от страха перед окружившей их тупой и бессмертной нелюдью, и это "протяни руку" - первое, что она сказала ему как равная равному, значило только одно: "протяни руку к возьми".
Он медленно поднялся, царапая щеку о кирпичный наружный косяк, и переступил порог комнаты. Где-то внизу, у его ног, сидела на полу невидимая Дениз.
Вот так. И не мучайся, все равно ведь это неизбежно. Быть тебе сукиным сыном. Судьба.
- Ты словно боишься? - проклятый голос, обиженный, совсем детский. Никто же не видит. Темно.
Так бы и убил сейчас. На месте.
- Может быть, я для тебя недостаточно хороша? Мсье Левэн говорил...
- Замолчи!!!
Бесшумно шевельнулся воздух, и Артем угадал, как поднялась, выпрямившись и чуточку запрокинув голову, Дениз. Из темноты лёгкими толчками поднималось и долетало до его лица ее дыханье. Ближе протянутой руки была теперь она от него.
- Зачем "замолчи"? Я люблю тебя, Артем.
Господи, да разве может быть, чтобы это "я люблю тебя" звучало так медленно, так правильно, так спокойно?
- Нет, Дениз, нет! Просто так вышло, что здесь только мы, ты и я, никого, кроме меня. Вот тебе и показалось... Почему бы и нет? Девочки рассказывают, мама запрещает, мсье твой плешивый травит про Нефертити... В первый раз верят не только другим, Дениз. Верят себе. Что с первого взгляда и на всю жизнь. Вот и тебе кажется. Мсье для этой роли не подошел, стар, и девочки засмеют. А тут - молодой русский, и на совсем другой планете, О-ля-ля! Пока никто не видит...
- Здесь темно, я не могу тебя ударить.
- А хорошо бы. Я даже прощенья просить не буду. Это завтра. Когда я буду способен соображать, что я говорю.
- Ты говоришь и не слышишь? Каждое твое слово - как crapaud (жаба), я не знаю по-русски, холодное, противное, мокрое! Зачем так? Зачем? Зачем?
Дениз, горе ты мое горькое, не "зачем", а "почему".
- Потому что не смей говорить: "Темно, и никто не видит". Не смей говорить: "Протяни руку". И не смей в этой темноте стоять так близко, что я действительно могу протянуть руку и взять.
Шорох шагов. Дальше. Еще дальше. Четыре шага темноты между ними. Одного его шага будет довольно, если сейчас позовет. Не смей звать меня, Дениз. Я люблю тебя. Где тебе знать, что любят именно так!
Тишина. Долгая тишина, в которой не спит и не уснет Дениз. Значит, еще не все. Еще подойти, отыскать в темноте спокойный лоб, и это - "спи, детка". Сможешь? Уже смогу.
А лицо мокрое. Все. Даже брови. И руки. Узкие холодные ладошки.
- Ну что ты, глупенькая, что ты, солнышко мое, девочка моя, - все слова, все имена, только бы ласковые, а какие - неважно, важно - нежность в них, вся нежность белого света, нежность всех мужчин, целовавших женские лица от Нефертити до Аэлиты. - Маленькая моя, рыженькая моя, единственная...
О, последовательность всех мужчин мира!
Уснула Дениз, зацелованная, счастливая, и руку его продолжает сжимать, словно это любимая игрушка. Как мало тебе было надо - согреть, убаюкать. А туда же - "протяни и возьми". Глупенькая ты моя. А теперь спишь спокойно и только носом посапываешь - наревелась, а я просижу всю ночь здесь, на полу, как последний дурак, положив голову на край твоей постели только затем, чтобы увидеть твое лицо, когда начнет светать.
Читать дальше