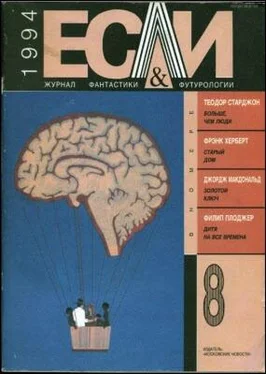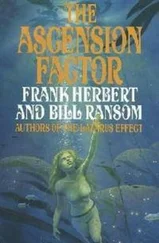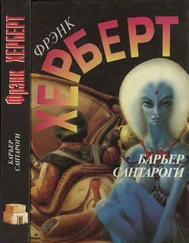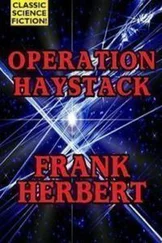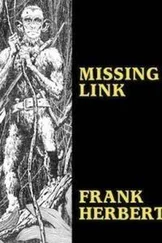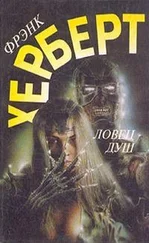Имя английского писателя Эмиса российские читатели узнали в 1958 году, когда увидел свет русский перевод его романа «Счастливчик Джим». Был ли причиной выхода книги антибуржуазный пафос произведения или общественная деятельность автора, ставшего основателем леворадикального движения «Рассерженные молодые люди», но факт остается фактом: одной из первых «оттепельных» ласточек стал роман преданного поклонника и авторитетного исследователя научной фантастики. Статьи по теории жанра, работа над составлением ежегодных антологий «Spectrum», собственные литературные труды — вот далеко не полный перечень заслуг Эмиса. Однако самым значительным его достижением по праву считается книга «Новые карты ада» (1960), созданная на основе курса лекций, прочитанных автором в Принстонском университете. Во вступительной главе, уже публиковавшейся в России, Эмис пытается дать определение научной фантастике и приходит к выводу, что «это раздел художественной прозы, имеющий дело с ситуациями, которые в нашем мире невозможны, но постулируются писателями на базе научно-технических новшеств либо на основе псевдонауки или псевдотехники земного или неземного происхождения». Такая формулировка позволяет Эмису провести четкую границу между НФ и фэнтези: если первая «сохраняет некоторое уважение к научным фактам», пусть даже вымышленным, то вторая их полностью игнорирует. Наконец, отдав должное всем корифеям жанра от Лукиана до Уэллса, писатель переходит к истории современной фантастики.
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Итак, в апреле 1911 года журнал «Современное электрооборудование» («Modern Electrics») приступил к публикации произведения под названием «Ральф 124С 41+: Роман о 2660 годе». Его автором был учредитель и редактор журнала, некий Хьюго Гернсбек. В истории НФ Гернсбек занимает теперь такое же место, какое Джордж Льюис занимаете истории джаза (имя Гернсбека, как известно, было присвоено самой престижной фантастической премии, премии «Хьюго»). Это, однако, не помешает нам обратиться к содержанию «Ральфа…», страницы которого посвящены описанию технических диковин, произведенных на свет изобретательным заглавным героем. Будучи кем-то вроде кавалера ордена «За научные заслуги», символом чего служит знак «+», Ральф начинает свои подвиги с уничтожения лавины, находящейся за три тысячи миль от него. После некоторых неприятностей с парочкой конкурирующих поклонников — землянином и марсианином — он при помощи сильного охлаждения и переливания крови возвращает к жизни погибшую девушку. Среди прочих содеянных им чудес стоит отметить гипнобиоскоп (своеобразное предвосхищение гипнопедии Олдоса Хаксли) и трехмерное цветное телевидение (термин, который, как утверждают, Гернсбек и ввел в обиход). Неудивительно, что многочисленных последователей автора «Ральфа.» стали публиковать главным образом научно-популярные издания; в 1926 году, впрочем, Гернсбек приступает к выпуску первого журнала, посвященного исключительно фантастике, — «Удивительных историй» («Amazing Stories»), которые выходят по сей день. Тогда же НФ открывает для себя, какой мощной поддержкой — по части объема и тиражей — может служить работа в двух смежных с ней жанрах. Одним из них — тем, что посолиднее — является фэнтези.
Первый журнал современной фэнтези, «Рассказы о сверхъестественном» («Weird Tales»), был основан тремя годами ранее «Удивительных историй», и я полагаю, что могу ограничиться простым упоминанием о существовании — где-то на втором плане — Элджернона Блэквуда и лорда Дансени. Самым ярким автором этого направления был Г. Ф. Лавкрафт, основная часть произведений коего представляет собой прозу ужасов популярного в Англии толка — или, по крайней мере, считавшимся популярным в 20-е — 30-е годы. Некоторые из лавкрафтовских рассказов — «Данвичский ужас» например, — незабываемо омерзительны; паратройка других, вроде «Крыс в стенах», относятся к жанру «историй с привидениями» или же настолько затасканы по сборникам, что, скажем, вещь под заголовком «Краска из космоса» иногда пробивается и на страницы НФ-антологий — главным образом, как мне кажется, из-за своего названия. Литературные достоинства этих текстов невелики, однако Лавкрафт умудряется создать впечатление, будто они нечто большее, нежели материал для психоаналитика (что справедливо для очень многих фэнтези и почти всей ранней научной фантастики); трудности же, возникающие при попытке определить жанровую принадлежность некоторых его работ, являются закономерным следствием неразберихи, которая была характерна для нереалистической прозы в период ее мучительного внутреннего «расщепления».
Читать дальше