— Не будет поколеблена моя вера, — твердо отвечала она.
— Трудный день, — пробормотал он. — Трудный.
— Кто ты? — настаивала жрица.
— Арелла! — попытался успокоить ее Снофру.
— Я хочу знать!
— Хорошо, хорошо, — проговорил Мес, морщась. — Голова разболелась… Арелла, сейчас я — никто. Понимаешь? Никто. Я
— это я. Второго такого нет.
Молчание.
— Ты поняла?
— Да, — сказала она, неотрывно гладя на него. Я знала это. Я видела это во снах.
Теперь и у Снофру в глазах появилось изумление.
— Герр Мес, — начал он,
— Да? — устало повернул к нему голову он.
— Ты приходишь, когда нужен. Твои слова — непреложная истина. Ты… — это он?
— Вы что, непременно решили из меня сегодня душу вытрясти? — вышел из себя Мес. — Или неспокойно вам? Мало даров? Почестей? Славы? Может, страха? Может, просто сомнения замучили? Говорю вам — я устал!
— Скажи, — попросила жрица.
— Нет, — отрубил герр Мес, вставая. — Уже было сказано тебе. Можешь пойти к толкователям. Для вас я — просто талантливый медиум. Для остальных я сейчас — никто.
Великие Геи-Земли ввысь парящие дети страстям и порокам и думам всецело подвластны, довлеют над ними Порядка и Веры веленья, боятся они ход мироздания дерзко нарушить.
Но все же великие, и странной покажется мыслью, что больше они уязвимы, чем смертные люди, ни камнем, ни ядом, ни пламенем лютым и жгучим, но верой, точнее, неверием, можно безжалостно их уничтожить.
Мы — время, златые века наступали и вновь проходили, на смену неспешную ночи и дня это было похоже, как Гемера-День и владычица темная Никта сменяют друг друга, чредою влачась сквозь века непрерывно.
Да, знаем мы, знаем и страшную ярость титанов, Олимпа высокого ясноликую мудрость, огня угасанье и мысли и славы горенье, и клики, и кровь, что лилась бранногрозною, жуткою сечей, и острый, веками отточенный огненный разум.
Мы — вечность.
На две мощных ветви членимся мы испокон века: Геады, безмерной Земли и Титанов живые потомки, отцом остальным приходится мертвенный Хаос.
Есть Эрос лучистый и светлый, чье бремя что богу, что смертному — все одинаково сладко; владеет сердцами и волей божественный Эрос, но нет продолженья ему — Эрос бессынен.
Могуч и ужасен и грозен страшилище черное Тартар, что темною сетью по безднам на дне распростерся; и Тифон стоглавый, и злая Эхидна, подобная змеям, — его порожденья, мечами героев безумных навечно избыты.
Но Тартар силен и многих других породил он; стократно они мощь отца своего побивают; свирепость титанов, сторуких наружность и скрежет Тифона — их облик, а имя — Безглазые Гогна.
Да, Гогна.
Как и некоторые другие, Магнус Мес имел резиденцию на Вихрящихся Мирах. Солнце здесь всходило очень редко, небо всегда было сиреневым с темноватым отливом, а в воздухе плотным пологом висела радужная, загадочная переливчатая песнь тонкострунной лиры. Здесь на исполинском холме стоял огромный великолепный дворец, своими темными террасами спускающийся в прекрасные необъятные леса, где шелестели кронами могучие зеленолистые платаны и олени сшибались рогами на тенистых полянах, подгоняемые вечно-непрестанным движением жизни.
Когда Месу удавалось посетить это место в свои редкие, ничем не занятые дни, он часто бродил по здешним лесам, размышляя о тайных законах бытия. Ему, уставшему от шумных верениц теней, без которых не обходится ни одна жизнь, было приятно прохладное молчание платанов и буков, мягкий шелест крон, незатейливое пение пестрых птах, игра солнечных лучей в симметричном концентрическом узоре паутины в густоте стволов орешника. Здешние леса были исполнены тишины и той золотисто-солнечной благодати, какая наполняет душу многозначительным молчанием природы. Этот лес давал ему растраченную в разговорах мудрость и заставлял забывать — но не о важном, а о пустом и суетном, что ему не было нужно.
Однако сейчас, в этот свой визит сюда, Мес был неспокоен. Это тревожило его — такого еще не бывало. Он гулял по залитым солнцем просекам, часами просиживал в тени какого-нибудь огромного вяза, но неспокойствие не покидало его, перерастая в ясное и четкое чувство тревоги. Прошлое одолевало его, прошлое, которое он всеми силами пытался отогнать все эти годы. Он не был мнителен, равно как и не был забывчив: он точно знал, что привычный ему мир изменился, а это недомогание — так он про себя решил называть его, — лишь чуткий датчик, показывающий, что что-то уже не так. Он доверял себе, а потому не волновался по поводу своего здоровья. Причину недомогания следовало искать где-то вне его самого.
Читать дальше



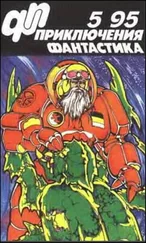
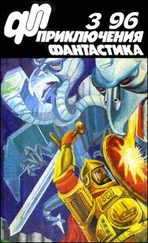



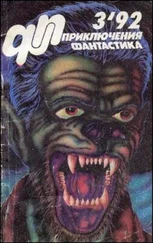


![Юрий Петухов - Проклятый [= Журнал «Приключения, фантастика» Выпуск 1.2000 ]](/books/392754/yurij-petuhov-proklyatyj-zhurnal-priklyucheniya-fan-thumb.webp)