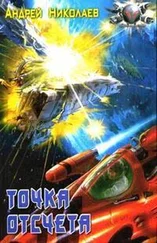-- Давай. А то простудишься и помрешь без пользы от какой-нибудь пневмонии.
От водки парень взбодрился, сообщил, что зовут его Константином и что он уже три с половиной часа ждет, что хоть кто-нибудь обратит на него внимание, но всем наплевать. А если всем наплевать, так и ему тоже. И замерз он, к тому же. А прыгать решил от тоски, от того, что девчонка ушла, что из института погнали и стихи нигде печатают. Ну, и чтобы не погибать зря - вот, нарисовал на картонке, что первое в голову пришло.
-- Так ты поэт! Но зачем же прыгать? Есть хорошие проверенные способы: вены вскрыть; застрелиться. Это ты погорячился, милый. Видишь! - воскликнул Шестоперов, обращаясь к Игорю, - его из института, а он головой с моста! А ты говоришь: молодежь ничего знать не хочет. Эх, Расея...
Чтобы он такое говорил, Корсаков не помнил, но решил, что с Леней в его нынешнем состоянии спорить не надо.
Переход под Крымским валом, где выставлялись непризнанные гении и просто независимые художники, был уже закрыт. Шестоперов стал ломиться и Корсаков с трудом уговорил его не буянить, чтобы раньше времени не попасть в милицию. В том, что рано или поздно они там окажутся, Игорь не сомневался.
Стал накрапывать мелкий дождик. Чугунные ворота в Парк Искусств были закрыты, ограда была высотой в два с лишним человеческих роста. Пьяный мужичок очнулся, спросил у Лени, кто он такой и почему никто не предлагает выпить. Шестоперов срочно разлил водку в кружку и пластиковые стаканчики. Все выпили на брудершафт, надолго припадая губами к опухшим лицам новоявленных знакомых, и стали держать военный совет, каким образом попасть к скульптурам бывших вождей.
Корсаков присел прямо на асфальт, прислонился спиной к ограде и запрокинул голову, подставляя лицо дождю. Голова гудела от дрянной водки, в глазах все плыло. Тучи представлялись ему волнами Баренцева, а может и Норвежского моря. Он парил над штормовым морем и ветер доносил до него брызги. Почему-то брызги были пресные... Ветер закручивал капли в спирали, свивал веревками, которые, расплетаясь, превращались в огромную школьную доску, испещренную странными знаками. Где-то Корсаков видел такие знаки: угловатые, ломкие, они выстраивались рядами, скользили, смешивались и снова разбегались по доске длинными предложениями... Знаки начинали слагаться в простые слова, складывались фразами, явственно звучащими в ушах, поднимаясь до крика, пытались пробиться к замутненному сознанию.
-- Не спи - замерзнешь! Ну-ка, Герасим, помоги его поднять.
Какой еще Герасим? Который собачку утопил? Живодер!
-- Не Герасим я, Герман.
-- Все равно помоги.
Корсакова подняли на ноги, он открыл глаза. В лицо ему участливо заглядывал Шестоперов.
-- Ну, ожил? Игорек, так не договаривались. Вечер в самом разгаре, а ты - спать! Не пойдет. Вот Гермоген, - Леня указал на мужичка, - знает дыру...
-- Герман я.
-- Какая разница? - искренне удивился Леня. - Короче, нормальные герои всегда идут в обход. Двинули, други.
Через дыру в ограде возле самой реки они проникли к вожделенным вождям и с комфортом устроились в беседке. Леонид разложил на столе закуску и праздник продолжился. Игорь посмотрел на поникшие кусты, на лужи на дорожках, на мокрые скульптуры, которые казались в темноте надгробиями и ему стало тоскливо, будто это он вынужден стоять в парке забытым памятником самому себе.
Несостоявшийся утопленник Константин еще два раза бегал за водкой, которая уже потеряла всякий вкус и пилась легко, словно ключевая вода. Говорили об искусстве, о бабах, о Поклонной Горе, на которой Наполеон ждал бояр с ключами от Москвы, о вождях и снова об искусстве и бабах. Изредка, когда сознание возвращалось, Корсаков пытался уловить нить разговора, но говорили все разом, причем прекрасно понимали один другого и никто не пытался переубедить оппонента, используя в качестве аргумента пустые бутылки. Обращались друг к другу исключительно вежливо, даже с нежностью, чему Корсаков немало удивлялся.
-- ...а я тебе говорю, друг Гервасий, что у всех американок жопа резиновая и если взять булавку...
-- Герман я. Булавкой винную пробку не расковыряешь, шило надо, Ленечка. А расковыряешь, крошки вытрясешь и сдавай ее, родимую, как стеклотару. Вот Константин не даст соврать. Скажи, Константин!
-- Я скажу: не надо орден, я согласен на медаль!
-- ...знак доблести и чести...
-- На Арбате любую медаль, а то и Героя Союза, царствие ему...
-- ...и прозрачен асфальт, как в реке вода, - Корсаков внезапно обнаружил, что последняя фраза принадлежит ему и что он поет, а остальные пытаются подтягивать в меру знания слов. - Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое...
Читать дальше