Тихий звук: полустон-полурыдание.
— Все то же! Как вчера, прямо посреди эфира…
— Я слышал.
— Мне еще повезло, что в студии в тот момент никого не было.
— А сейчас? Ты вроде бы немного успокоилась…
— Да, все уже кончилось. Быстрее, чем вчера, но я боюсь… Вдруг оно вернется! — Еще один всхлип. — Я же не могу все время молчать, я диджей все-таки… Что мне делать?
— Погоди, — говорю. — Сейчас одну трубку положу… — Решаю подбодрить шуткой. — А то стою тут весь в телефонах, как барышня из Смольного. Слушаю жену в стереофоническом звучании…
Я вернул трубку дискового аппарата на место — и в то же мгновение услышал в радиотелефоне короткие гудки отбоя. Тупо снял трубку с рычага, но гудки никуда не делись. Повертел в руке…
Мне бы следовало перезвонить, но тут вдруг нахлынуло, как всегда не к месту… Я крутил трубку в руке, холодную, гладкую и фиолетовую, и вспоминал свои вчерашние ощущения от прикосновения к Маришкиной коже, такой же холодной, гладкой и фиолетовой, и как испуганно в груди билось сердце, точь-в-точь короткие гудки радиотелефона, и как я все не находил в себе решимости, чтобы дотронуться… просто прикоснуться к ней. Кричал про себя: что же ты! Ведь это она, все равно она, пусть незнакомая, но родная… Копирайт — Лермонтов.
И все равно не мог…
И вдруг — новый скачок по изогнутой, винтовой лестнице памяти, сразу через семь ступенек, в «семь лет назад», когда я был значительно моложе, как следствие, глупее, а может, и наоборот, веселее и симпатичнее, как утверждают некоторые, и наверняка смелее, поскольку жизнь тогда еще редко проходилась по мне своей мелкой теркой, но все равно… точно так же не решался прикоснуться к ней. Такой красивой, такой независимой, с таким холодным равнодушием в бирюзовых кукольных глазах… Что вы!
Цветаевой было проще с ее «едва соприкоснувшись рукавами». Стояло лето, и я носил исключительно футболки, а она — рубашки, но практически без рукавов. Так что соприкасаться, когда это все-таки случалось, нам приходилось голой кожей, и я однажды окончательно понял, что схожу с ума, хуже того — уже сошел, когда за короткую июньскую ночь придумал двадцать ласкательных вариантов произнесения ее имени. Со временем, правда, остался один, самый приятный на слух.
Маришка…
Мы учились на одном курсе, но в разных группах. Благодарение Богу, иначе я, скорее всего, не доучился бы до второго семестра. Когда она проходила мимо меня, спеша куда-то по коридору учебного корпуса, я неизменно деревенел лицом, отворачивался к тем, кто оказывался рядом, и с преувеличенно заинтересованным видом вступал в какую-нибудь бессмысленную беседу. Вроде «Как, ранг суммы не превосходит суммы рангов? Иди ты!». Когда же рядом не оказывалось никого и мне некому было нести свою чушь, я небрежно кивал ей, эдак запросто, между делом — все-таки кто-то когда-то нас знакомил. Ответом мне был скользящий взгляд бирюзовых кукольных глаз, а один раз — мимоходом оброненная фраза:
— Чего не заходишь? Номер комнаты забыл? Второй этаж, напротив мусоропровода…
Такая вот романтическая завязка. Собственный мой адрес был немногим лучше. Я жил на третьем, и моя комната непосредственно соседствовала с мужским туалетом.
— Угу, — изрек я, отвлекшись ради этого от изучения темно-синего «кирпича» матанализа Ильина-Поздняка, который раскрыл наугад пять секунд назад, имея в виду: хорошо, зайду как-нибудь, как будет время…
Ока постояла еще секунду и пошла дальше своей дорогой, а я, сосредоточившись, чтобы не глядеть ей вслед, прочел как самое сокровенное знание: «Последовательность называется сходящейся, если для любого эпсилон найдется такая дельта…»
Думаю, именно с этого эпизода началась наша сходимость. Потому что когда эпсилон слишком долго тормозит с поиском своей дельты, та, заинтригованная таким пренебрежительным отношением, находит его сама. И тогда уж для эпсилона наступает, как часто говорил своему соавтору по матанализу строгий, академичный Ильин: «Поздняк метаться, Эдик…»
Время, на которое я намекал своим младенческим угу-каньем, выдалось тем же вечером. Я спустился на один этаж, двинулся в направлении мусоропровода, но уже на пороге заветной комнаты лицом к лицу столкнулся с осложняющим фактором. Фактора звали Евгением — все, даже преподаватели. Женя, Женька или Женек к нему как-то не лепилось. Некоторые норовили ввернуть отчество, но не знали наверняка какое и оттого невнятно растягивали имя, так что получалось «Евгени… и… и… ич».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
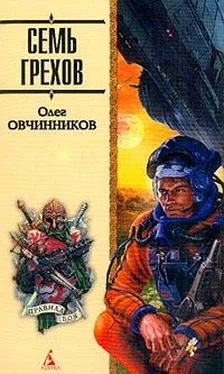




![Диана Соул - Семь грехов лорда Кроули [publisher - ИДДК, с оптимизированной обложкой]](/books/395522/diana-soul-sem-grehov-lorda-krouli-publisher-id-thumb.webp)

