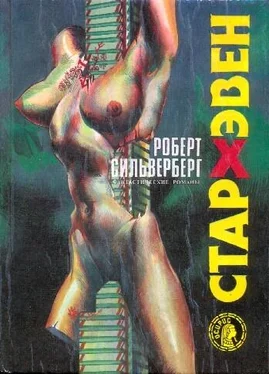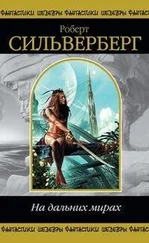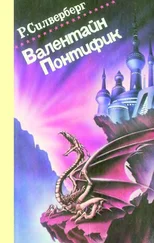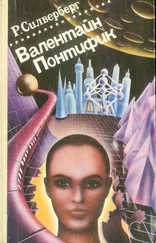Диллон подергивает плечом, торопит допплеринвертониста заканчивать с настройкой.
— Давай, давай, давай, давай, давай! — и в этот раз они наконец достигают синхронизма. Время уже 18.40.
— Ну, теперь пройдемся, — выпевает Нэт. — Маэстро, выдай нам для начала!
Диллон склоняется и захватывает пальцами клавиши проецитронов. Добавляет мощности. Ощущения в пальцах меняются — выпуклости клавишей внезапно ощущаются им как место, где спина Электры переходит в ягодицы. Он улыбается этому чувству. Теперь Диллон — воплощение решительности, настороженности и хладнокровия.
Начали! Одной мощной вспышкой света и звука он создает Вселенную. Зал заполняется изображениями космических тел. Они несутся в пространстве, то сливаясь, то распадаясь. Немедленно пускает в ход арсенал своих трюков чародинист; он мечет аккордами до тех пор, пока не начинает трястись вся гонада. Сногсшибательные петли головокружительных контрапунктов выдает кометарфа и тут же начинает перестройку созданных Диллоном звездных скоплений.
Сидевший до сих пор расслабленно орбитаксонист внезапно склоняется над своим инструментом, и на всех контрольных панелях стрелки приборов начинаются метаться в безумной пляске. Диллон внутренне аплодирует ему за такое впечатляющее вступление. Плавно подает ритм чародин. А вот вступает и допплерин-вертон, выбрасывая свой собственный луч света, который свистит и парит с полминуты, прежде чем спектроялисту удается овладеть им и повести его. Теперь все семеро объединяются, нащупывая обратные связи, и при этом создают такое столпотворение сигналов, что его видно, наверное, от Бостона до Сэнсэна.
— Прекратите! Прекратите! — вопит Нэт. — Мальчики, утихомирьтесь!
И оркестранты стихают, снижают ритм и сидят расслабленные, потные, отходят от этого взрыва эмоций. Нэт прав: они не должны выработаться прежде, чем соберутся зрители.
А пока обеденный перерыв — прямо на сцене. Есть никому не хочется. Инструменты, разумеется, оставлены включенными: было бы неразумно разрушить достигнутый с таким трудом синхронизм. Изредка какой-либо из инструментов уплывает за порог холостого прогона и испускает пучок света или волну звука.
“Если им позволить, они бы играли сами, — думает Диллон. — Стоит только включить их на игру, а самим отстраниться — и инструменты сами дадут самопрограммирующийся концерт. Должно быть, странное впечатление оставят разум и искусство машин. С другой стороны, должно быть, чертовски унизительно оказаться ненужным. Как хрупок наш престиж. Сегодня мы прославленные артисты, но стоит только раскрыть секреты профессии, и завтра мы будем таскать мусорные бадьи в Рейкьявике”.
Зрители начинают собираться в 19.45. Поскольку это первый вечер гастролей в Риме, распределением билетов правят законы старшинства; поэтому в зале нет никого моложе 20 лет. Диллон, человек среднего возраста, даже не пытается скрывать своего презрения к седым мешковатым людям, усаживающимся в зрительных секторах вокруг сцены. “Может ли хоть что-нибудь заинтересовать их, кроме проблемы размножения? Заинтересует ли их музыка? Или они будут пассивно сидеть, даже не пытаясь приблизиться к восприятию представления? Игнорируя “потеющих” артистов, занимая хорошие места и ничего не получая от фейерверка, света и музыки”.
“Мы бросаем вам всю Вселенную, а вы не берете ее! Не потому ли, что вы стары? Что может толстеющая многократная мать тридцати трех лет взять от космического представления? Но нет, дело не в возрасте. В других, более утонченных и искушенных городах проблема контакта со зрителями разного возраста никогда не возникала. Дело не в возрасте, дело в их отношении к искусству вообще. На дне здания мужланы реагируют темпераментно, шумно. То ли они очаровываются цветными огнями и неистовыми звуками, то ли еще чем-то, но они не остаются безразличными. А в верхних этажах, где интеллект не только разрешен, но и желаем, люди тянутся к представлениям, понимая, что, чем больше они сольются с ним, тем больше они от него получат. Проходя через голову, музыка острее воспринимается органами чувств — разве она не сама жизнь? А здесь, на средних этажах, реакция зрителей вялая. Главное — присутствовать на концерте, отобрав у кого-то другого билет, пустить пыль в глаза, само представление неважно. Это просто шум и свет — несколько сумасбродов из Сан-Франциско делают свою работу, ну и пусть себе делают. Так они и сидят, эти римляне, выключенные из настоящей жизни от черепа до промежности. Какая ирония! Римляне? Да настоящие римляне были не такие, будьте уверены! Когда этот город назвали Римом, было совершено преступление против истории”.
Читать дальше