Пушкин отвернул голову и стал смотреть в окно. Мой взгляд последовал за ним.
Светила ярчайшая луна. За упавшей изгородью шло нетронутое снежное поле, обрубленное с трех сторон лесом, а с четвертой — черной стеной сарая и двумя-тремя увязшими по заколоченные окна избами. «Я провижу гордые тени грядущих и гордых веков», — пролязгали в памяти чьи-то громкие стихи.
Пушкин перевел взгляд внутрь комнаты и стал оглядывать ее с напряженным вниманием. Дощатый стол, лавка с косо поставленными ногами, два табурета. Печь с облупившейся побелкой. Блестящие никелированные шарики кровати. Что еще? Полка с кухонными причиндалами. Утыканные гвоздями бревенчатые стены, потолок, оклеенный грязноватой и кое-где порванной бумагой. И, весь в узлах, шнур с лампочкой. Сиротливый представитель материальной культуры гордого века.
И тут на меня нашло детское желание похвастать перед великим поэтом техникой наших дней. Боже мой, ведь он и железной дороги не видел. «Веселится и ликует весь народ» — это было позже. Показать бы ему цветной телевизор. Сцену из оперы «Евгений Онегин». «Маленькие трагедии» со Смоктуновским и Высоцким.
Или балет. Он, кажется, любил балет. «Блистательна, полувоздушна, смычку волшебному послушна…» А может быть, по страшному контрасту хоккей. Безумную схватку мужчин двадцатого века. «Динамо» — «Буффало сейбрс». Но нет телевизора. Даже приемник остался в машине. Нет ничего. Все чудеса нашего мира — панорамное кино и лазеры, компьютеры с ладонь и ракеты с двaдцатиэтажный дом, Третьяковка и музей его, Пушкина, имени, где в живописи страсть и страдание века, — все это там, за десятками километров леса и снега…
Распахивается дверь. Входит Аскольд.
— Послушайте, — говорю я под влиянием импульса, — может быть, вы задержитесь на день-другой? У меня тут недалеко автомобиль. Так хочется свозить Александра Сергеевича в Москву. Ну пожалуйста! Ведь он там родился.
Я уже бормочу, понимая бессмысленность просьбы и предчувствуя ответ. И слышу его:
— Это невозможно. — Аскольд улыбается и качает головой. — Не огорчайтесь так. У нас отличные историки. Александр Сергеевич все увидит и все узнает.
Господи, о чем я думал, о каком телевизоре? Ведь Пушкин уже видел их аппарат, эти «сани». Чего он только не увидит там…
А наше время? Останется у него в памяти небритый бирюк в развалившейся избенке. Двадцатый век! Россия!
— Ничего, я ничего, — говорю. — Я не огорчаюсь.
— А вы знаете, Александр Сергеевич, — обращается Аскольд к Пушкину, — мне кажется, наш радушный хозяин сочиняет стихи.
— О! — вырывается у Пушкина.
Я краснею.
— Вы почитаете мне что-нибудь? — с пылом восклицает поэт.
С упреком гляжу на Аскольда. Запинаясь, объясняю, что читать свои стихи не могу. Аскольд отводит взгляд.
— Ты нам нужен там, Вадим, — говорит он.
Они выходят.
— Вы должны, вы обязаны познакомить меня с вашими сочинениями, — с тем же жаром говорит Пушкин. — Российская поэзия двадцатого столетия. О, это волнует меня необычайно!
— Поэзия двадцатого столетия? — переспрашиваю я. — Хорошо, Александр Сергеевич. Я согласен. Не свои стихи, конечно. У меня их, собственно… Я прочитаю вам любимых моих поэтов. Книг у меня здесь, к несчастью, нет. Я почитаю, что помню.
— Давайте же! — говорит Пушкин.
Он садится на лавку, закидывает ногу за ногу. Бросаются в глаза узкие панталоны со штрипками, порыжевшие на сгибах кожаные сапожки. Взгляд ожидающий, тревожный.
Я начал с Блока. Со строк, что обожгли меня еще в ранней юности.
Память у меня хорошая, стихов помню много. Сначала от волнения я запинался. Но взгляд Пушкина был полон такого жадного внимания, что я немного успокоился. Впрочем, нет. Спокойствие — не то слово. Голос мой и теперь был неровен, но причины тому были другие. Другое, более высокое волнение вело меня от строки к строке.
«И всем казалось, что радость будет,
что в тихой заводи все корабли,
что на чужбине усталые люди
светлую жизнь себе обрели».
Несколько раз слушатель мой выказывал необычайное возбуждение, и я на миг замолкал. Но он тут же хватал меня за руку и шептал жарко: «Еще, еще!»
Зимы холодное и ясное начало
Сегодня в дверь мою три раза простучало.
Я вышел в поле. Острый, как металл,
Мне зимний воздух сердце спеленал…
Что это была за ночь! Горя щеками и задыхаясь, я переходил от поэта к поэту, вновь возвращался, кружил и петлял. «Наше священное ремесло существует тысячи лет… С ним и без света миру светло. Но еще ни один не сказал поэт, что мудрости нет, и старости нет, а может, и смерти нет».
Читать дальше
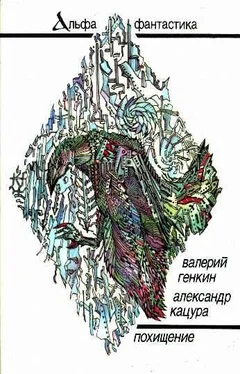










![Валерий Строкин - Похищение Елены [СИ]](/books/402579/valerij-strokin-pohichenie-eleny-si-thumb.webp)