Итак, метод: подобно своему старшему собрату по перу, Жулавский придавал большое значение научной достоверности своих фантастических произведений. В то же время оба они могли, если того требовал художественный замысел, проигнорировать точное научное знание или взять на вооружение уже отвергнутые наукой представления.
За примерами далеко ходить не надо. Устами Мишеля Ардана Жюль Верн утверждал: «Луна под влиянием земного притяжения приняла форму яйца, которое обращено к нам своим более острым концом. С этим предположением согласуются и вычисления Гагзена, доказывающие, что центр тяжести Луны лежит в ее заднем полушарии. А отсюда, в свою очередь, следует, что главная масса лунного воздуха и воды должна была устремиться на противоположную сторону земного спутника еще в первые дни творения». Астрономия отказалась от подобных воззрений задолго до выхода в свет «С Земли на Луну», но ведь так интереснее… И тридцать с лишним лет спустя Жулавский строит свою модель Луны в полном соответствии с этим высказыванием.
Точно так же оба писателя избирают в качестве транспортного средства для своих героев вагон-снаряд, выпущенный из гигантской пушки; вернее, и на этот раз Жулавский следует в кильватере Жюля Верна. А ведь иные авторы придумывали куда более экзотические способы межпланетных путешествий. Ле Фор и Графиньи, например, заряжали свой вагон-снаряд в жерло не артиллерийского орудия, а вулкана, сильно экономя при этом на строительных работах и пироксилине; современник Жюля Верна Ашиль Эро уже думал о ракетном двигателе; современник Жулавского Герберт Уэллс в своих «Первых людях на Луне», увидевших свет в том же 1901 году, когда состоялась и первая публикация «На серебряной планете», изобрел кейворит, материал, неподвластный закону тяготения… Но детская завороженность слишком сильна, и потому Жулавский не в силах был отказаться от собственной «колумбиады». Но тут же проступает и первое различие между ним и Жюлем Верном — первое из ряда многих, о которых нам еще предстоит поговорить. «Колумбиада» Жюля Верна — в полном соответствии с духом дня нынешнего — была плодом конверсии.
Гражданская война в Америке завершилась; артиллеристы остались не при деле — вот и надумали достославные члены Пушечного клуба выпалить в Луну. Чувствуется здесь и новаторство замысла, и технический размах, и дерзкая удаль Христофора Фернандовича Лаперуза. У Жулавского, к сожалению, его сверхмортира оправдана лишь следованием литературной традиции, и потому невольно воспринимается неким анахронизмом. Впрочем, нет — одно обоснование у Жулавского все-таки было. Артиллерийский снаряд не предусматривает возможности возвращения. Замысел же романа как раз этого и требовал. Но тут мы подходим к очень существенному моменту.
Отправляясь на Луну, герои Жюля Верна тоже брали билет в один конец. «Каким образом вы оттуда вернетесь на Землю?» — вопрошает капитан Николь. «А я совсем не вернусь!» — запальчиво восклицает в ответ Мишель Ардан. Но это — лишь красивые слова; символ, а не программа. Сам Жюль Верн не мог с ними согласиться никоим образом. Не случайно «С Земли на Луну» завершается фразой: «Помяните мое слово: они найдут способ выйти из своего трудного положения — они вернутся на Землю!» XIX век мог примириться с рискованными предприятиями, мог даже восхищаться ими, рукоплескать многочисленным Ливингстонам и Андре. Иные из них возвращались с триумфом, другие исчезали без следа. Но отправляться на заведомую погибель? Нет, подобная затея безусловно аморальна! Как всякое самоубийство — по крайней мере, с точки зрения традиционной нравственности и христианской морали.
Ежи Жулавский тоже был сыном XIX столетия — и не только по праву рождения. Как известно, провозвестием XX века прозвучал в Европе не салют при открытии Всемирной выставки 1900 года в Париже, а сараевский выстрел, которым сербский студент Гаврило Принцип свел счеты с эрцгерцогом Фердинандом, тем самым подарив человечеству Первую Мировую войну. И потому можно сказать, что вся жизнь Жулавского прошла в прошлом столетии, в нашем же он провел только год… Однако он очень чутко улавливал ветры, дующие из грядущего, и предчувствовал крушение традиционной нравственности. Пророками этих перемен полнился конец века. Упомяну лишь одного из них, поскольку он был близок с Жулавским и оказал на нашего героя немалое влияние.
Это Станислав Пшибышевский — личность яркая и для своего времени характерная. Прозаик, драматург, эссеист, одинаково легко писавший по-польски и по-немецки, он испытал на себе огромное влияние философских произведений Ницше с их утверждением жизни как единственно неоспоримой ценности, биологической мотивированности человеческого поведения, отрицанием традиционных понятий добра и зла, идеей освобождения от всех и всяческих моральных уз. На этом фундаменте Пшибышевский и построил концепцию, которую в дальнейшем развивал во всем своем творчестве — особенно ярко проявилась она в его пространных эссе «Шопен и Ницше» и «Ула Хансон», которые обеспечили ему видное место в кругу германо-скандинавской богемы, среде литераторов и художников, обуреваемых идеями декаданса, мистицизма и модернизма. Одновременно Пшибышевский увлекся демонологией, сатанизмом, индийской философией и черной магией. И всей этой невероятно эклектичной смесью, еще не успевшей превратиться в более или менее пригодное к употреблению интеллектуальное варево, он обильно потчевал по возвращении из Германии и Норвегии своего младшего друга и коллегу Жулавского; тот отведал — и пристрастился. Это ощущается и в стихотворениях Жулавского (а их вышло, кстати, четыре тома), и в его многочисленных пьесах (одна из них, «Эрот и Психея», пользовалась просто невероятной популярностью), и в эссеистике, и, разумеется, в «лунной трилогии». Так что первый ее роман всходил не только на жюль-верновских дрожжах; в этом процессе приняли участие и Спиноза, и Ницше, и Шопенгауэр, и Стриндберг, и Пшибышевский — и многие, многие другие…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
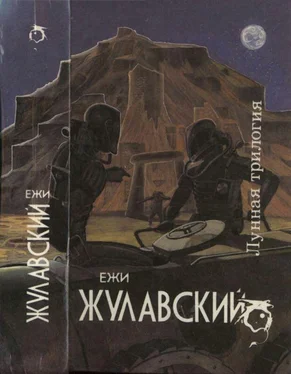

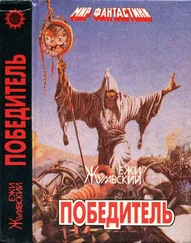
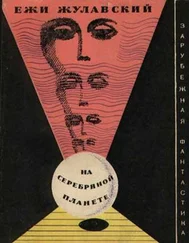
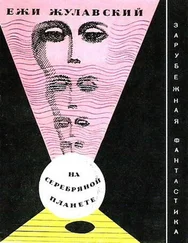

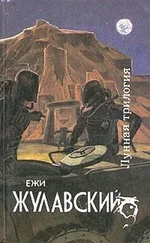
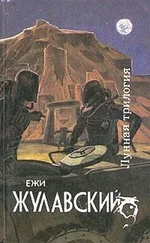
![Ежи Жулавский - Победитель [litres]](/books/432355/ezhi-zhulavskij-pobeditel-litres-thumb.webp)
![Ежи Жулавский - На серебряной планете [litres]](/books/432356/ezhi-zhulavskij-na-serebryanoj-planete-litres-thumb.webp)
![Ежи Жулавский - Древняя Земля [litres]](/books/432357/ezhi-zhulavskij-drevnyaya-zemlya-litres-thumb.webp)