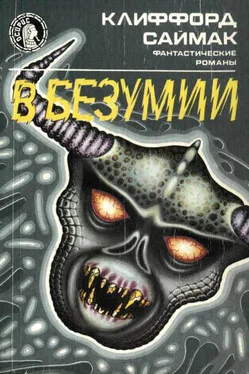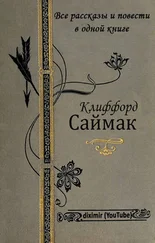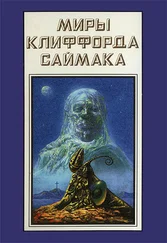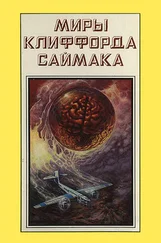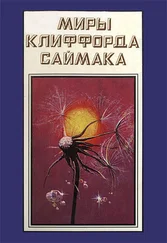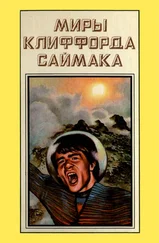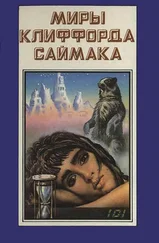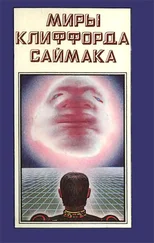— Мы должны заплатить тебе за двадцать лет, — уточнил Адамс почти ласково. — Деньги тебя ждут. Можешь взять их, когда выйдешь отсюда. Почему бы тебе не взять их сейчас? Можешь еще потребовать три или четыре года отпуска.
Саттон ничего не ответил.
— Приходи еще, — пригласил Адамс, — мы поговорим по-другому.
— Я не изменю своего решения.
— А никто тебя и не просит. Саттон медленно поднялся.
— Мне жаль, — сказал Адамс, — что ты мне не доверяешь.
— Я летел, чтобы сделать дело, — решительно заявил Саттон, — я его сделал. Я обо всем сообщил.
— Да, это так, — подтвердил Адамс.
— Полагаю, вы не потеряете со мной связь? В глазах у Адамса мелькнул мрачный огонек:
— Всенепременно, Аш. Я не потеряю с тобой связь.
Саттон спокойно сидел в своем кресле, так, как сидел сорок лет назад. Будто ничего не произошло.
Потому что он снова вернулся на сорок лет назад. Даже черные чашки были те же самые. Через открытые окна в кабинете доктора Рэйвена слышались молодые голоса и топот ног студентов, шлепающих по тротуару. В кронах вязов разговаривал ветер, и этот звук был ему тоже знаком. Где-то вдалеке звенел церковный колокол, а прямо через дорогу слышался девичий смех.
Доктор Рэйвен подал ему чашку кофе.
— Думаю, что я прав. — И глаза доктора блеснули. — Три куска и без сливок.
— Да, это точно, — подтвердил Саттон, изумленный тем, что доктор мог помнить. «Но помнить, — сказал он себе, — это легко. Я, кажется, смогу все вспомнить. Как если бы куски старых привычных мыслей начищались и полировались в моем мозгу все эти чуждые годы, ожидая этой встречи, как прибор заботливо хранимого серебра ожидает на полке, когда придет время употребить его снова».
— Я помню мелочи, — усмехнулся доктор Рэйвен, — чепуховые, бессмысленные мелочи, как, например, количество кусков сахара и что сказал человек шестьдесят лет назад, но я, бывает, путаюсь в важном… в том, что, считается, должен помнить человек.
Беломраморный камин был ярко начищен до самого сводчатого потолка, и щит с гербом университета на его полированной поверхности был таким же блестящим, как и в последний день, когда Саттон его видел.
— Я думаю, — обратился к доктору Саттон, — что вы удивитесь, почему я пришел.
— Ничуть, — возразил доктор Рэйвен. — Все мои мальчики возвращаются повидать меня, и я рад их видеть. Это заставляет меня гордиться.
— Я и сам удивляюсь, — улыбнулся Саттон, — и мне кажется, я знаю почему, но это трудно объяснить.
— Тогда давай спокойнее, — проворчал доктор Рэйвен, — помнишь, так, как мы привыкли. Мы сидели и обсуждали вопрос, и, наконец вникнув в него, мы находили суть.
Саттон коротко рассмеялся.
— Да, я помню, доктор. Тонкости теологии. Существенные различия в сравнительной религии. Скажите мне вот что. Вы провели за этим всю свою жизнь, вы знаете о религиях земных и других более, чем любой человек на Земле. Были вы способны хранить одну веру? Вы когда-нибудь испытывали искушение уклониться от учения вашей расы?
Доктор Рэйвен поставил чашку.
— Я мог бы заранее предположить, что ты озадачишь меня. Ты делал это все время. У тебя сверхъестественная способность поставить именно тот вопрос, на который человеку трудно ответить.
— Я больше не буду вас озадачивать, — заверил его Саттон. — По-моему, вы нашли какие-то хорошие, можно сказать, даже лучшие черты в глухих религиях.
— Ты нашел новую религию?
— Нет, — ответил Саттон, — не религию.
Церковный колокол все звонил, а девушка, которая смеялась, ушла. Шаги на тротуаре были уже далеко.
— У вас не было когда-нибудь чувства, — спросил Саттон, — как будто вы сидите и слушаете то, что, как вы знали, вам не дано было услышать?
Доктор Рэйвен покачал головой:
— Нет, не уверен, что я когда-нибудь это чувствовал.
— Если бы вы услышали, что бы вы сказали?
— Я думаю, — сказал доктор Рэйвен, — что я был бы так же озадачен этим, как ты сейчас.
— Мы жили одной верой, по крайней мере, восемь тысяч лет, а может, и больше. Наверняка, больше. Потому что то, что заставляло неандертальца красить берцовые кости в красное и ставить черепа к востоку лицом, должно было быть верой, слабым проблеском чего-то вроде веры.
— Вера, — мягко произнес доктор Рэйвен, — это могучая вещь.
— Да, могучая, — согласился Саттон, — но даже в ее силе — признание нашей слабости. Наше собственное признание того, что мы должны иметь посох, чтобы опереться, выражение надежды и убеждения в существовании какой-то высшей власти, которая укажет нам путь и даст руководство.
Читать дальше