Меня губят озарения. Воспаряешь, забывая о том, что нет крыльев. И — брякаешься на асфальт, так что искры из глаз. Очень больно падать. Все так. Кроме неба. Небо я умею. Я даже не понимаю — почему, но оно у меня живое. Единственное, что я умею. Гвадари писал только при свечах, а я пишу только небо. И еще хуже, что оно такое. Беспощадное. Оно просто кричит, что автор бездарность. Сфорца прав: в посредственной работе не должно быть ни капли таланта. Потому что — контраст. Один талантливый штрих разрубит всю картину. Великий искуситель Сфорца: капля живой воды в бочке дегтя, жемчужное зерно в навозной куче. Он мог бы этого и не говорить. Я сам все знаю. Жаль, что никак нельзя избавиться от этого ежедневного, мучительного и невыносимого знания.
Климова толкнули. Забывшись, он сказал: «Осторожнее», — в полный голос. К нему негодующе обернулись, словно нарушать тишину было преступлением. Климов вспомнил, зачем пришел. Разозлился. Морщась от неловкости, стал проталкиваться вперед. Вслед шипели. Здесь тоже была очередь. Дежурный с повязкой на рукаве следил за порядком. Опять пришлось показывать приглашение. Дорогу давали неохотно.
Поперек главного зала была натянута веревка. За ней, в противоестественной пустоте, освещенная сразу из двух окон, одна на стене, словно вообще одна на свете, висела картина. Она была в черной раме. Будто в трауре. Это и был траур — по нему, по Климову. Он взялся руками за веревку. Ему что-то сказали — шепотом. Он смотрел. Его осторожно потрогали за спину. Он щурился от напряжения. Это было невозможно. Заныли виски, защипало глаза от слез — словно в дыму. Нельзя было так писать. Какое-то сумасшествие. Выцвели и исчезли стены, исчезли люди. Он прикусил язык, почувствовал во рту приторную сладость крови. Гулко, на весь зал, бухало сердце. Его предупреждали. Ему говорили: будет точно так же, только в сто раз лучше. Но кто мог знать? Он видел лишь эскизы и писал по эскизам. Его обманули. Не в сто раз — в тысячу, в миллион раз лучше. Просто другой мир. Тот, которого ждешь. Мир, где нет хронического безденежья и утомительных метаний по знакомым, чтобы достать десятку, где нет комнаты в кишащей коммуналке — похожей на гроб, и сохнущего в бесконечном коридоре белья, и удушающей ненависти соседей к н ер аб от аю ще му . В этом мире никто не вставал в пять утра и не гремел кастрюлями на кухне, и не было стоячей, как камень, очереди на квартиру где-то на краю света, и можно было не стесняться друзей, выходящих из жирных машин (Как дела, Коля? Все рисуешь?). В этом мире не было кислых лиц у членов выставочного комитета, и не подступала тошнота от своего заискивающего голоса, и не было безнадежных выбиваний заказов: оформление витрины — натюрморт с колбасой, и отчаянных часов в мастерской, когда ужас бессилия выплескивается на полотно, и внутри гнетущая пустота, и кисть будто пластилиновая, и хочется раз и навсегда перечеркнуть все крест-накрест острым шпателем.
Его грубо взяли за плечо. Климов очнулся. Оказывается, он непроизвольно продвигался ближе. Шаг за шагом. Веревка, ограждающая картину, натянулась и была готова лопнуть. Дежурный рычал ему в лицо.
Климов, сутулясь, поспешил вернуться назад.
— Посмотрели — отходите, — сказал дежурный.
— Шизофреник, — объяснял кто-то за спиной. — Таким субъектам нельзя смотреть картины Сфорца. Может запросто сойти с ума. И порезать.
— Как порезать?
— Обыкновенно — ножом.
— Куда смотрит милиция…
Дежурный толкал Климова в грудь.
— Отходите, отходите!
Он чувствовал на себе любопытные взгляды. Кровь прилила к лицу. Девушка рядом с ним, вытянув прозрачную детскую шею, смотрела вперед. Прикрывала рот ладонью, будто молилась.
— Не трогайте меня, — сквозь зубы сказал Климов.
Ему хотелось крикнуть: «Это писал я! Здесь — мое небо! Мой воздух. Тот, что светится голубизной. Сфорца тут ни при чем. Посмотрите в другом зале. Там висит картина. На ней такое же небо. Счастье, которое излучают краски, сделал я. Эмалевая голубизна, чуть выцветшая и тронутая зеленым, как на старых полотнах Боттичелли — это могу только я. Сфорца этого не может.»
— Гражданин, — напомнил дежурный.
— У него в мастерской висят картины без неба, — хрипло сказал Климов.
— Заговаривается! — ахнул за спиной женский голос.
— Да вызовите же милицию!
Климов стиснул зубы и отошел. Его сторонились. Он стал за мраморной колонной. Полированный камень был холодным.
Читать дальше


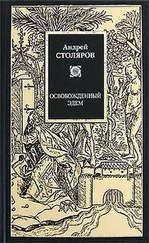



![Андрей Столяров - Боги осенью [Авторский сборник]](/books/395773/andrej-stolyarov-bogi-osenyu-avtorskij-sbornik-thumb.webp)
