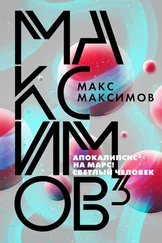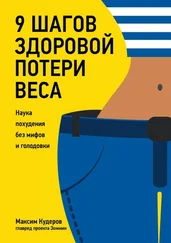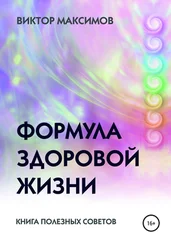Ну, а невежество родителя пояснения не требует…
Эта загробная тема была довольно популярна и в европейской и русской литературе первой половины 19 века.
Естественно, и Гоголь, тем паче, после такого «потустороннего» воспитания, не стал исключением.
Однако черти, упыри и вурдалаки, оживающие мертвецы и прочая нечисть – из его знаменитых «Миргорода» и «На хуторе близ Диканьки», все же были изображены у него с изрядной долей иронии и сарказма!
В том числе и сами хуторяне, жившие среди этой нечисти.
Но постепенно, со временем, Гоголь и сам стал все больше верить и в свои и в чужие сказки о реальности этого страшно жуткого мира, по другую сторону бытия. На фоне вечного недомогания, вкупе со всеми этими страшилками, у него начал развиваться не просто страх смерти, но еще больший страх быть тоже похороненным заживо!
Особенно после того, как переболел малярийным энцефалитом.
И здесь тоже разночтения, одни утверждают, что малярией он переболел еще в детстве, другие говорят, что заразился ею в Италии.
В возрасте 20 лет он впервые полюбил, чувство было сильным, но безответным, и Гоголь писал, что пережил настоящую катастрофу.
Позже он пытался посвататься к красавице графине Вильегорской, однако родители девушки были настолько возмущены дерзостью писателя, не отличавшегося ни знатностью, ни богатством, что пошли на крайние меры: они даже отказали незавидному жениху от дома!
А он так размечтался!
Это был еще один удар по ранимой психике писателя, и Гоголь так и остался одиноким человеком. И, несомненно, одиночество и любовные неудачи наложили не самый веселый отпечаток на его характер.
В 1836 году Гоголь предпринял путешествие по Европе и Ближнему Востоку, чтобы развеяться от тягостных дум, поправить свое здоровье, подальше от русских зим, и как бы обрести «духовное обновление».
Он провел за границей почти 10 лет, но ни Италия, ни поездки к «святым местам» – в Иерусалим и Константинополь, посещения монастырей и беседы с «духовными пастырями» так и не дали желаемого результата. Скорее, и эти поездки, и сама атмосфера этих «святых мест» и все эти беседы, начисто лишенные хоть какого-то реально жизненного смысла, только еще больше напрягли его, и физически и душевно.
В Италии он чуть не умер от малярии, а новые переживания, обострения старых и приступы новых болячек вконец утомили его, и Гоголь еще больше разочаровался в жизни.
После ряда неудач устроить свою личную жизнь, он долго и тяжко переживал, еще больше замкнулся и решил навсегда с этим покончить.
И весь ушел в работу над «Вием», где и похоронил свою мечту о счастливой семейной жизни. Он так переживал каждый эпизод со своими героями, как будто сам участвовал во всех действиях!
Много душевных сил отнял и «Ревизор». Писатель очень боялся провала пьесы, это могло даже поставить крест на его дальнейшем творчестве, следовательно, и на дальнейшем смысле жизни вообще.
Зуд совершенства заставлял менять сцены, реплики и даже самих героев до такой степени, что он порой отчаивался и в своем таланте и даже в собственной способности написать хоть что-нибудь толковое….
Но блестящий результат и хвалебные отклики приятно разочаровали его сомнения и прибавили вдохновения на дальнейшие литературные подвиги. Однако пережитые творческие муки добавили и еще одну глубокую борозду в его и так неровной и неспокойной жизни…
Все это неумолимо приближало Гоголя к обрыву в пропасть…
В январе 1852 года скоропостижно умирает жена его друга, поэта Хомякова, Екатерина Михайловна Хомякова, с которой Гоголь тоже очень дружил.
Иллюстрация №1– Екатерина Хомякова – https://vmardoni.ru/wp-content/uploads/2018/04/6.-Ekaterina-Homyakova.jpg
***(Здесь и далее, чтобы случайно не нарушить чьих-нибудь авторских прав, мы опускаем изображение, но даем на эти изображения неактивные ссылки. И если читателю это покажется интересным, он сам может найти эти картинки в интернете.)
Сам Хомяков в своих воспоминаниях писал: «С того времени он пребывал в каком-то нервном расстройстве, принявшем характер религиозного помешательства. Он говел и начал морить себя голодом, попрекая в обжорстве».
Я полагаю также, что немалую роль сыграли и «обличения» некоего протоирея Матфея Константиновского, которому, в горячке спора, Гоголь дал прочитать главы 2-то тома «Мертвых душ».
Этот чересчур велеречивый поп крайне нелестно отозвался о содержании рукописи и даже потребовал ее сжечь. А в качестве «искупления» настаивал, чтобы Гоголь соблюдал строгий пост, требовал особого рвения в соблюдении церковных наставлений, распекал и самого Гоголя и А.С.Пушкина за их «греховность и язычество».
Читать дальше
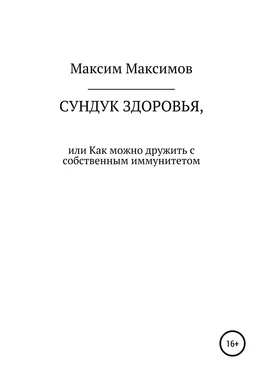
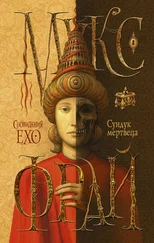
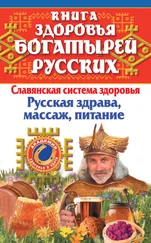


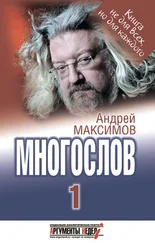
![Максим Максимов - Максимов³ [сборник litres]](/books/390605/maksim-maksimov-maksimov³-sbornik-litres-thumb.webp)