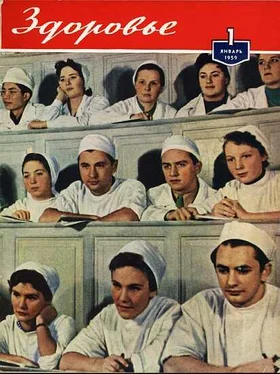Самыми крупными рассадниками ришты были бассейны-хаузы у главного духовного училища — медрессе, куда веками стекались паломники со всего Среднего Востока. Здесь ежедневно тысячи людей совершали обряд омовения и заражали воду риштой…
Исаева не останавливали никакие препятствия — ни технические трудности, ни упрямое сопротивление духовенства, угрожавшего молодому советскому врачу кровавой местью. По его настоянию городской Совет закрыл эти хаузы, и тысячи людей, таким образом, были выключены из эпидемиологического кругооборота.
Для того чтобы взять на учет каждый рассадник ришты, пришлось сделать глазомерную съемку всего города и его водоемов. Десять тысяч владений были нанесены на карту.
Один за другим появлялись в списке больные. В амбулаториях лечили бесплатно и хорошо, и это было лучшей агитацией против табибов. В борьбу вступило и санитарное просвещение: ожидая приема у врача, можно было разглядывать плакаты, полюбопытствовать, как выглядит под микроскопом переносчик ришты, или даже посмотреть кинофильм об этой болезни.
Постепенно в быт населения древнего города входила кипяченая вода, кувшины для хранения воды — хумбы стали промывать кипятком. Сотни активистов помогали очищать хаузы.
В 1930 году нам удалось продемонстрировать студентам в ташкентских клиниках последнего больного риштой. Изнурительная болезнь исчезла с лица советской земли, чтобы никогда больше не возвращаться.
Между тем во многих странах мира она продолжает существовать. В Африке и Южной Америке, в Индии и Пакистане 25 миллионов людей еще страдают от «горя риштозного»…
После победы над риштой Л. М. Исаев направил все свои силы на борьбу с малярией. Малярия была тяжелым наследием старого строя. Не менее 8 миллионов больных этой опасной и затяжной болезнью числилось в дореволюционной России, а в период гражданской войны и хозяйственной разрухи число их достигало чудовищной цифры — 14–15 миллионов.
В Узбекистане целые кишлаки вымирали от тропической малярии. Такая трагическая судьба постигла Той-Тюбе и Пскент. За время эпидемии малярии в Узбекистане с 1893 до 1902 года в одном только Ташкентском уезде умерло от малярии 39 640 человек. Особенно свирепствовала (малярия в долинах рек Зеравшана, Санзара, Сурхан-Дарьи.
Советская власть не хотела мириться с этим величайшим народным бедствием. Были приняты государственные меры борьбы с малярией — создавались противомалярийные институты и станции, готовились кадры специалистов. «Командующим противомалярийным фронтом» в Узбекистане становится Л. М. Исаев. Под его руководством трудится целая армия врачей, паразитологов, акринихизаторов, энтомологов, бонификаторов.
Десятки тысяч километров с рюкзаком за спиной исходил Леонид Михайлович пешком по пыльным дорогам Узбекистана. Он знает наизусть каждый ручеек, каждый водоем. Мало кто так, как он, овладел тайнами водных стихий Средней Азии, режимом паводков, влекущих за собой эпидемии малярии.
В царской России мало думали о связи оросительных систем со здоровьем человека. Каналы и водоемы сооружались стихийно, кустарно. В результате вода — источник жизни — стала источником болезней и смерти. Обводнение и заболачивание огромных площадей привели к размножению в астрономических масштабах малярийных комаров…
Как полководец, бросался Исаев со своими «частями» туда, где полыхал пожар эпидемии. Перед маляриологами республики стояла задача — оздоровить весь обширный оазис, расположенный в низовьях Зеравшана. Именно у Исаева (родился план создания Шахрудского водосброса, который мог бы обуздать стихию вод Зеравшана — многорукавной степной реки, заболачивавшей огромные пространства Бухарской и Самаркандской областей.
Новое сооружение обеспечило правильное распределение и сброс вод и ликвидировало заболоченность. Зеравшанская «долина смерти» превратилась в долину пышных садов, зеркальных просторов рисовых полей и безбрежных плантаций белого золота — хлопка. Крупный успех в борьбе с болезнью принесло массовое применение новых отечественных противомалярийных препаратов — акрихина и плазмоцида. Число больных трехдневной малярией, заражавших комаров, стало уменьшаться буквально в геометрической прогрессии. Затем на помощь пришел бигумаль — препарат, излечивающий тропическую малярию. На основе наблюдений эпидемиологической разведки брались на учет все без исключения больные и паразитоносители: всех их лечили настойчиво, терпеливо, до полного выздоровления.
Читать дальше