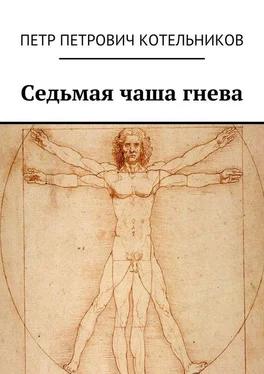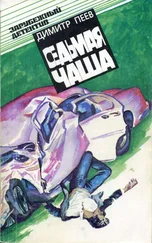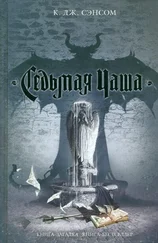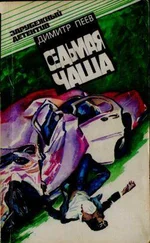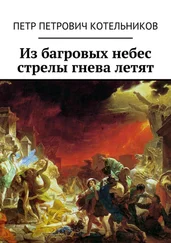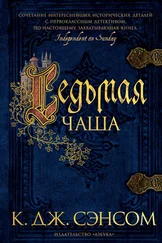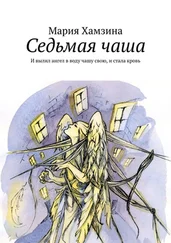Из Древнего Египта вера в душу пришла и к философам Древней Греции, таким значимым, каковыми являлись Платон и Аристотель.
Платон (427 – 347 до н. э.). Ему принадлежит сочинения: «Законы» в 12 книгах, и «Государство» в 11 книгах. Это ему были посвящены следующие строки:
«Речь у него с языка стекала, сладчайшей меда»…
Это с легкой руки Платона по миру стал гулять миф об «Атлантиде».
Философ глубоко чтил физические упражнения и сам был выдающимся атлетом – борцом, конником, гимнастом. Был победителем на Истмийских и Пифийских спортивных играх. Платон утверждал, что только тот, кто соединяет в себе силу, здоровье и выносливость со стойкой волей, умом и сердцем, – настоящий атлет. Под музыкой Платон понимал космологическую структуру. Под словом природа Платон понимал душу. О душе и сознании говорит Платон, Знаниями обладает наша душа, именно она видит с помощью глаза, слышит с помощью ушей. «Душа сама по себе, как мне кажется, наблюдает общее во всех вещах», – говорит он. И далее продолжает: «Тело человека, принадлежащее к миру предметов, обладающее органами чувств, как и все в этом мире, тленно, временно, преходяще… Другое дело – душа! Душа сопричастна нетленным сущностям, сама является изначальным образом нашего существования».
Развил учение о бессмертности души ученик Платона – Аристотель.
Аристотель (384 – 322 до н.э.). Величайший – ученый, энциклопедист, философ, филолог, математик, историк, зоолог, ботаник, был преподавателем в одном из афинских гимнасиев. Говорил, что красота тела – лучшее рекомендательное письмо. Его учеником был Александр Македонский. Уже, будучи царем, Александр приехал в Олимпию и победил в состязаниях по бегу.
Если Платон отделил тело от души, то Аристотель форму и душу совместил в единство. «Душа необходимо есть сущность в смысле формы естественного тела, обладающего и возможностями жизни» – говорит Аристотель. Устраняя дуализм сущности и явления, общего и единичного, необходимого и случайного, рационального и чувственного, Аристотель объединяет материю и форму. Форма (душа) становится над материей. Наличие формы – самостоятельного начала, движущего и управляющего материей, приводит Аристотеля к отрыву формы от единичных вещей, к превращению наиболее общей «формы всех форм» в демиурга, в творца, в Бога, имеющего собственное, отличное от материи существование.
«И жизнь поистине присуща ему, ибо деятельность ума – это жизнь, а Бог есть деятельность, и деятельность его, какова она сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь. Мы говорим поэтому, что Бог есть вечное, наилучшее живое существо, так что ему присущи жизнь и непрерывное и вечное существование, а именно это есть Бог»
Аристотель соч. в четырех томах. т. 1, стр. 310.
Философы многих поколений пытались понять, что дает человеку силу нести всю тяжесть и противоестественность трагического конца. Человек часто сознательно и добровольно идет на смерть, теряя самое дорогое, что у него есть – жизнь. И трагическое в человеческой жизни существовало и продолжает существовать. Это трагическое связывалось с бессмертием души. После физической смерти человека, его душа должна была переселиться в потусторонний мир, где существовало всегда в чистом и незамутненном виде то, о чем мечтал и за что боролся человек, – мир подлинной справедливости и красоты. Поэтому человек не должен был испытывать ни страха, ни даже страдания. Это хорошо описано Платоном в диалоге «Федон» – последние часы Сократа перед казнью. На продолжение загробного существования уповали и ранние христиане, идя за свои убеждения на крест или на растерзание дикими зверями.
Атеизм делает человека слабым перед смертью, поскольку он знает, что со смертью кончается все. Представление смерти может не вызывать сколько-нибудь сильных эмоциональных переживаний у человека, вооруженного законом божьим. Атеизм не сегодня возник и не является порождением Советской власти, как некоторые думают. Он пришел к нам издалека, из глубин седой старины. Вначале, скорее всего, это явление возникло из-за свойственного человеку чувства дуализма. Одни верят в существование Бога или богов, другие не верят в это, иногда скрывая свое неверие, поскольку открыто проявленное безбожие становилось крайне опасным.
Верил или не верил в богов Сократ, установить сегодня трудно. Но жизнью он поплатился. Сложнее выглядит жестокая расправа с Мигелем Серветом. Иногда слышим, что его казнили за то, что он был близок к открытию законов кровообращения, описав малый круг его. Кальвина, пославшего на костер ослушника монаха, естественно не волновали специальные медицинские представления Сервета. Опасным было то, что испанский теолог настойчиво защищал право собственного понимания фундаментального догмата христианства, провозглашая религиозную терпимость. Для женевского главы протестантов тот был опаснее папских легатов. Он видел в этом посягательство на свою власть. И хотя Мигель Сервет не сомневался в существовании Господа Бога, Кальвин добился показательной казни на медленном огне, переплюнув в жестокости саму инквизицию. Кто был ближе душою своею к Господу, Сервет или Кальвин? На этот вопрос мы, живущие на земле, ответить не можем. Но одно ясно, что, казнив Сервета, Кальвин обессмертил имя мучника!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу