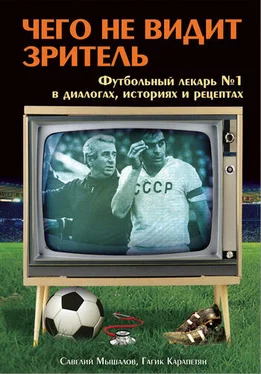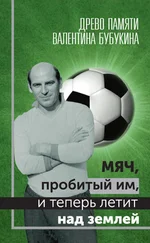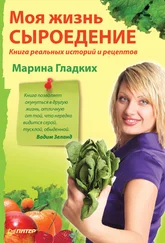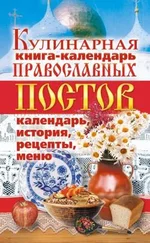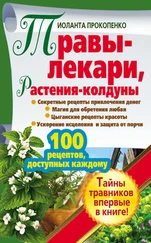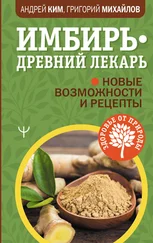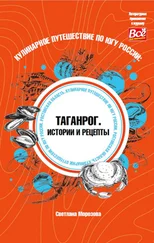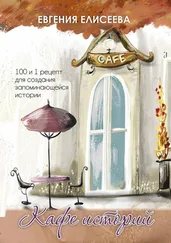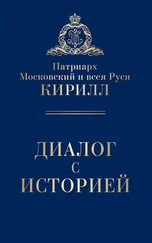Если возвращаться к призовым, отвечу так. На том же «Бишлете» проводилась серия очень интересных товарищеских соревнований. Наши соперничали со шведами, норвежцами, финнами как на своеобразных малых чемпионатах. На трибунах – яблоку негде упасть. Разыгрывались очень престижные призы. После всех забегов приглашали на банкет. Или другими словами – праздничный ужин. Там-то, на огромном столе, расставляли колоссальные по тому времени подарки.
Например, магнитофоны, которыми у нас в ту пору даже не пахло. Классные супердорогие коньки. Фирменные электробритвы последних марок. Интересно, что изначально призы никому не предназначались. Просто призеры в порядке, соответствующем занятому на соревновании месту, приглашались к столу. Они сами выбирали то, что им больше по душе. Приоритет, естественно, имели победители. Вызывают, допустим, первым Косичкина, победителя на дистанции 5000 метров, у него и выбор шире, чтобы присмотреть себе, что лучше.
– Очень любопытно! Как все же на Западе понимали, что это любительский спорт! Что деньгами премировать нельзя. И нашли способ поощрить сильнейших, не нарушая законов. А за эти призы нашим мастерам приходилось отчитываться?
– Нет! Это как раз разрешалось. Вспоминается характерный для тех времен случай. Итак, «гастроли» конькобежной сборной СССР по Скандинавии в середине 1960-х, после зимней Олимпиады в Инсбруке. Там всемирно знаменитой стала пара Людмила Белоусова – Олег Протопопов. Фигуристов по горячим следам включили в нашу делегацию. По договоренности они участвовали в показательных шоу. Происходило это так: сначала конкурировали конькобежцы, а по окончании забегов на открытый лед выходил наш дуэт. Их выступления неизменно производили фурор.
Им тоже на банкете вручали призы. Перед этим организаторы аккуратно выяснили у Белоусовой, что ей больше всего хотелось получить. Она, близорукая, очень нуждалась в контактных линзах. Они на Западе только появились и стоили так дорого, что даже выдающимся фигуристам оказались не по карману. И вот на запрос гостеприимных хозяев Людмила так скромно и ответила: «Ну, вот если бы линзы…» И ей вместо, скажем, очередного кубка вручили жизненно необходимые линзы.
Однако самое интересное развернулось в другом эпизоде. Олег владел английским языком. Можно сказать, даже блестяще, если иметь в виду общий уровень языковой подготовки нашей делегации. Итак, на банкете он на отменном английском поблагодарил хозяев за теплый прием, за чрезвычайно ценный подарок для их семьи. Чем вызвал страшное негодование руководителя нашей делегации. А им был непотопляемый начальник с характерной фамилией Антипинок.
В свое время по указанию «сверху» Валентином Панфиловичем решили укрепить «всесоюзное конькобежное хозяйство». А до того он в Спорткомитете СССР курировал футбол. Откуда его убрали после темной и драматичной истории с Эдуардом Стрельцовым. Но, оставив в Скатертном переулке, чиновника перебросили на коньки. В принципе его с тем же успехом можно было отправлять управляющим в банно-прачечный трест: там ему не то что знание иностранных языков, но и родной русский, с которым он кое-как управлялся, обильно уснащая неказистую речь словами-паразитами, вряд ли понадобился бы. Но тут, вдали от родных стен, в нем вдруг проснулась то ли натура филолога-патриота, то ли яростная обида куратора на то, что он не в силах понять – значит, и проконтролировать – о чем таком вякает подчиненный ему олимпийский чемпион. Поэтому после банкета товарищ Антипинок «выдал» Протопопову:
– Ты что, – взревел он, – русского не знаешь? Ты же из России! Какой на хер английский?
Протопопов попытался объяснить:
– Валентин Панфилович, помилуйте! Это же «плюс», это показывает наш уровень!
– Какой там уровень! – пренебрежительно оборвал тот. – Убрать английский!
Вот такие руководители представляли страну и отечественный спорт за рубежом! Что касается спортсменов, то те же Белоусова и Протопопов произвели на меня очень хорошее впечатление своей интеллигентностью и скромностью. Кстати, позже судьба свела меня с другими мастерами этого вида спорта. Потому что в 1964-м на Игры в Инсбруке сборная фигуристов выехала без врача. И мне, помимо конькобежцев, поручили опекать и их.
– И как же вы ухитрялись успевать?
– Ничего, успевал. Все-таки команда у них была не многолюдная: кроме Белоусовой и Протопопова, еще одна пара Гаврилов – Жук, Четверухин в одиночном и еще фигуристка – теперь не припомню ее фамилию. Выручало то, что в олимпийской деревне арены располагались рядом. Поэтому я присутствовал на тренировке у одних, а затем «на рысях» перемещался к другим. С расписанием тоже повезло. У фигуристов соревнования в основном проходили вечером, а конькобежцы в это время были свободны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу