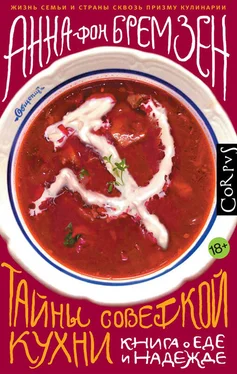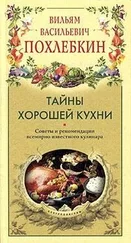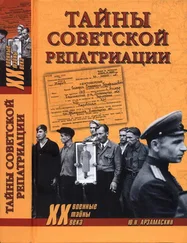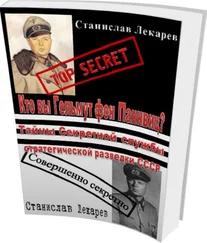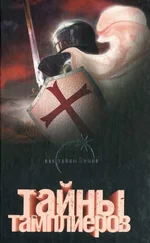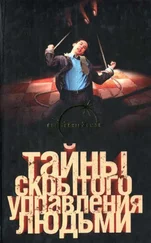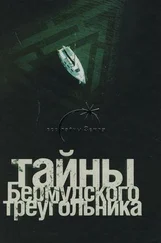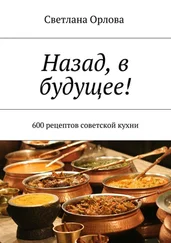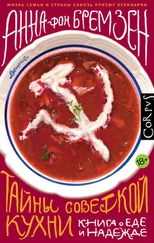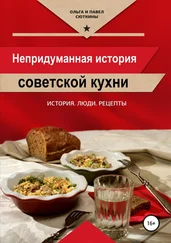Так была начата быстро набравшая обороты неравная война меньшинства против большинства — радикально настроенных, индустриальных городов против консервативной, религиозной, недоверчивой деревни. Крестьяне никогда не были горячими сторонниками большевиков. При военном коммунизме сельское хозяйство погибало. К 1920 году урожай зерна упал до 60 процентов от довоенного уровня, когда Россия была крупным экспортером хлеба.
Нечего и говорить, что в эти жуткие времена понятие высокой кухни было забыто. Сама идея получения удовольствия от ароматной пищи была заклеймена как упаднический пережиток капитализма. Певец революции Маяковский науськивал своих глумливых муз на фантазии гурманов:
Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй!
Еда стала топливом, позволяющим выживать и трудиться на благо социализма. Еда стала оружием классовой борьбы. Все, что хоть немного напоминало тестовские разносолы (во главе с жирной кулебякой), объявлялось реакционной атакой на новорожденное общество. Одни царские трактиры и рестораны разгромили и разграбили, другие национализировали, превратив в общественные столовые. В них должны были кормить народные массы утопической пищей будущего, предположительно — фантастической и рациональной. Только через двадцать лет, после отмены очередной волны продуктовых ограничений, государство принялось отыскивать старых профессиональных поваров и возрождать некоторые традиционные рецепты, по крайней мере, на бумаге. Возник целый этикет новой советской кухни, порождение сталинского наркомата пищевой промышленности. Несколько «царистских» блюд вернулись в виде советских подделок. Но настоящая многоярусная рыбная кулебяка, краса и гордость былых дней, воскресла уже только в путинской Москве. Ее заказывали нефтяные олигархи, заключая сделки в ресторанах стиля «тоска по Романовым».
* * *
У нас с мамой есть своя история про кулебяку.
В 1974-м мы приехали в Филадельфию с двумя небольшими чемоданами, и мама, чтобы прокормиться, прибирала чужие дома. Чудом она сумела за два года накопить денег на скромную поездку в Париж. Меня он разочаровал своим высокомерием. Мама же была на седьмом небе. Ее многолетний советский сон наконец-то сбывался — неважно, что мы неделю питались просроченной колбасой. В последний вечер мама решила кутнуть. Мы пришли в прокуренное бистро в шестнадцатом арондисмане. И вот! При свете свечей появилось самое дорогое блюдо в меню — наша рыбная кулебяка! В своей французской инкарнации — coulibiac. Одно из немногих блюд a la russe, проникших во Францию — гастрономическое влияние в девятнадцатом веке шло преимущественно в другую сторону. Нервно пересчитывая наши франки, дрожа от предвкушения, мы набросились на эту coulibiac и были немедленно вознаграждены: пышное масляное тесто восхитительно трескалось, чуть тронь его вилкой. Нежный коралловый лосось, казалось, подмигивал нам — презрительно? — из разрезанного на тарелке пирога, словно его как француза обязывало положение. Галлы не могут удержаться от самодовольства. Мы снова откусили, приготовившись к безоговорочной капитуляции. И вдруг — стоп, стоп — что-то не так. Медам, мссье! А куда вы подевали лесные грибы, рис с укропом, впитывающие сок блинчики? А как же магический букет вкусов? Французская coulibiac , решили мы, — просто подделка. Saumon еп croute [2] Пирог с лососиной (фр.).
рядящийся в русский кафтан. Мы расплатились с надменным гарсоном и ушли, исполнившись неожиданной тоски по нашей «пражской» кулебяке, будившей несбыточные мечты.
Неуловимый святой Грааль русской высокой кухни отыскался, представьте себе, в Филадельфии, спасибо старым белогвардейским эмигрантам, уехавшим перед революцией и сразу после нее. Эти отпрыски благородных фамилий — Голицыны, Волконские — прибывали в США через Париж, Берлин или Шанхай. В палисадниках своих маленьких домиков под Филадельфией или Нью-Йорком они растили черную смородину и набоковскую сирень. Время от времени ходили на балы — на балы! Мы, беглецы из империи варваров, были для них милой диковиной. Их беседы с матерью протекали примерно так:
— И где же вас застала революция?
— Я родилась в 1934-м.
— А что советские люди думают о Керенском?
— Они о нем особенно не думают.
— Я слышала, в России многое изменилось с 1917 года.
— Эээ… совершенно верно.
— Правда, что на бегах теперь позволяется ставить только на одну лошадь?
Читать дальше