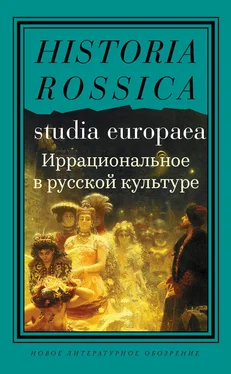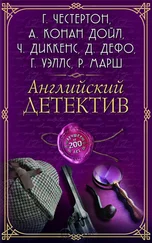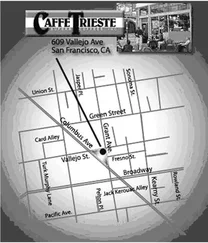Следует заметить, что такой церковный скептицизм, достаточно распространенный среди иерархов, получивших образование в духовных академиях, не отрицает возможности чудесного, но оперирует категориями здравого смысла, очищая и исправляя поток «сказаний», свидетельств и опытов, находящихся на границе между вероятным и абсурдным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обычно считается, что церковь имеет дело с иррациональными явлениями чаще, чем другие институты общества. Таинство евхаристии и обряды, связанные с освящением предметов материального мира, являются в чем-то обыденным явлением церковной жизни. Рассматривая православную церковность как явление более широкое, включающее и «народное», и «официальное» благочестие, Шевцов пишет об «иерофантном» 144 144 От слова «иерофант» (термин, часто встречающийся у Мирчи Элиаде), которое образовано из греч. ἱερός (hieros) – «священный» и φαίνειν (phainein) – «являть», и которое можно перевести как «манифестация священного».
характере священного объекта (например, иконы), диктующем почитание и признание сверхъестественного как «реальности»: таково было, по словам исследовательницы, типичное отношение к подобным объектам со стороны иерархов 145 145 Shevzov V . Russian Orthodoxy, 208.
. Даже если они ограничивали или преуменьшали сферу действия объектов, ассоциирующихся с иерофантным чудесным действием иконы, они не отрицали сам факт чудесного 146 146 Ibid., 74.
.
Тем не менее визионерство как явление харизматическое взрывает рутинность ежедневной церковной жизни, свидетельствуя о близости «границы» видимого и невидимого и подвигая общество на какое-то социальное или духовное действие (покаяние, почитание святыни). Именно социальное значение видений ведет к столкновению разных дискурсов и позиций. Видение может стать источником противоречивых интерпретаций, а разные структуры власти вовлекаются в разворачивающиеся события.
Дело Ануфрия Крайнева, которое находится в центре нашего рассуждения, служит примером того, как пережитый опыт повышает социальный статус, облекает властью и делает известным простого верующего. Визионер не является слабым и безгласным мирянином, его связь со святым дает ему большую власть. Таким образом, участие церковной власти в этом процессе нельзя рассматривать как подавление спонтанного духовного творчества мирян, ищущих личных контактов со святостью.
Также было бы несправедливо интерпретировать действия власти как рационализацию нуминозного опыта. Личное свидетельство визионера, о котором мы можем судить только через призму официального источника, осмысляется и интерпретируется через призму позднеантичного аскетического учения о «различении духов» и прелести. В данном случае мы имеем дело не столько с официальной политикой синодальной церкви, которая в этот период не противодействовала проявлениям народного благочестия, таким как чудесные явления икон или видения, сколько с особым направлением в восточнохристианском богословии, практиковавшимся в некоторых монашеских общинах допетровской и послепетровской России и только к концу XIX века инкорпорированным в академическое богословие. Близость митрополита Филарета к этому направлению (условно обозначенному как направление «Добротолюбия») способствовало тому, что в случаях проявления мистицизма и заявления о чудесах иерарх мог обращаться к авторитету опытных монахов Оптиной пустыни или Троице-Сергиевой лавры. В литературе часто присутствует понимание богословия «Добротолюбия» как мистического и «иррационального». Представленные рассуждения показывают, что одним из важных аспектов «Добротолюбия» было духовное трезвение, то есть внимательное отношение к происхождению духовных явлений, определение их источника или как божественного, или как демонического. В то же время представители церковной иерархии пользовались и другими оценочными категориями для описания проявлений народного благочестия: они применяли скептицизм петровского времени, расценивая некоторые «чудеса» как сознательную манипуляцию или обман (говоря словами той эпохи – «пустосвятство» и «ханжество»), а также использовали здравый смысл.
«ЧУДОТВОРНЫЕ» СПОСОБНОСТИ «БРАТЦА» ИОАННА ЧУРИКОВА С РЕЛИГИОЗНОЙ И СВЕТСКОЙ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1894–1917)
Судя по всему, вера в возможность иррациональных событий, особенно таких, как чудесные исцеления и пророчества, на рубеже XIX и XX веков получила в России чрезвычайно широкое распространение. Россияне православного вероисповедания как по отдельности, так и от лица целых общин с поразительным постоянством сообщали о случаях своих собственных или чужих исцелений, необъяснимых или непостижимых без ссылки на небесные силы. Несмотря на распространение и совершенствование медицинских методов лечения, верующие сплошь и рядом обращались к святым и к чудотворным иконам, надеясь на божественное вмешательство, которое избавит их от болезней и вызванных ими страданий. Кроме того, ежегодно сотни тысяч паломников посещали святые места либо в знак благодарности за ответ на свои молитвы, либо в надежде на то, что контакт с мощами своего святого покровителя (воспринимавшимися как точка, где земля встречается с небом) положит конец их мучениям 147 147 Исследования в рамках работы над данной статьей были выполнены на грант, щедро выделенный Национальным фондом содействия гуманитарным исследованиям ( National Endowment for the Humanities ). Любые взгляды, результаты исследований и сделанные из них выводы, представленные в данной статье, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения NEH. Greene R.H. Bodies Like Bright Stars: Saints and Relics in Orthodox Russia. DeKalb, 2010, chapter 2; Kenworthy S. The Heart of Russia: Trinity-Sergius, Monasticism, and Society after 1825. Oxford, 2010, chapter 5; Worobec C. Miraculous Healings // Steinberg M., Coleman H. (Ed.). Sacred Stories: Religion and Spirituality in Modern Russia. Bloomington, 2007, 22–43.
.
Читать дальше