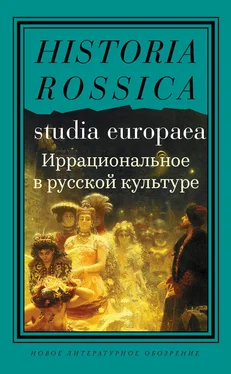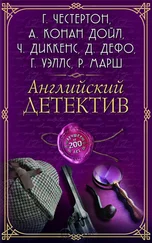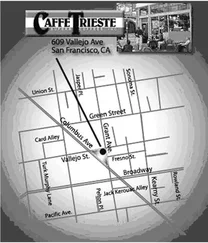Интересным вопросом, остающимся за пределами данной статьи, остается соотношение традиционного дуалистического аскетического подхода к духовным явлениям и понимания некоторых необычных явлений как результата физиологических процессов. В западном средневековом дискурсе о видениях используются рассуждения Августина Гиппонского о психосоматических причинах некоторых видений 139 139 De Genesi ad Litteram цит. по: Newman B . What Did It Mean to Say „I Saw“, 7.
. Нам неизвестны ссылки на эти сочинения Августина у православных богословов XIX века. В связи с интересом теологов к научным и медицинским открытиям можно было бы предполагать, что более рациональные объяснения будут доминировать над аскетическим подходом. Тем не менее в эпоху Серебряного века происходит возрождение и включение в академический дискурс аскетического богословия, как это нашло отражение в работах профессора Московской духовной академии И.В. Попова и отца Павла Флоренского 140 140 Попов И.В. Идея обожения в древневосточной церкви. М., 1909; Флоренский П. Столп и Утверждение Истины. Опыт православной феодицеи в двенадцати письмах. М., 1914.
.
Таким образом, дело Крайнева служит примером того, как аскетическое богословие использовалось некоторыми церковными иерархами в оценке явлений народного благочестия. Это дело достаточно уникально, и нам пока неизвестны аналоги этого случая, хотя мы знаем, что «экспертиза» признанных Синодом старцев часто была востребована в случаях с монастырскими беспорядками, «ересями» и прочими «нестроениями» 141 141 Например, во время Валаамского дела в 1838 году или в деле имяславцев в 1913 году. См.: Paert I . Spiritual Elders, 92.
. Использование в церковной практике эпохи модерности «архаичных» дискурсов – понятия «прелести» или различения духов – не должно вызывать удивления: на самом деле этот критерий позволял в лучшей мере рационализировать визионерство и другие сверхъестественные явления, избежав соблазнов скептицизма или позитивизма.
Более того, следует иметь в виду, что применение дискурса различения духов и прелести в церковной политике было явлением ограниченным, сводясь к «Оптинской школе», которая несмотря на свою значимость (из нее вышли четыре иерея и несколько настоятелей и благочинных достаточно влиятельных в России монастырей) все-таки не преобладала в церковных «верхах» 142 142 Запальский Г.М. Оптина пустынь и ее воспитанники в 1825–1917 годах. М., 2009, 142–144.
. Митрополит Филарет, безусловно, был тесно связан с этой «школой», активно участвуя в издательской деятельности Оптиной пустыни и опираясь на ту же традицию «духовного трезвения», характерную для оптинцев. С точки зрения церковной политики,, проблема «видений» не существовала как отдельная тема, а была связана с другими, более распространенными проявлениями «народного благочестия» – иконопочитанием, почитанием мощей и святых.
Кроме аскетического подхода церковных деятелей к сверхъестественным явлениям существовали и другие, возможно, более доминирующие подходы, как, например, скептицизма и здравого смысла, часто зависящие от образовательного уровня и позиции того или иного церковного деятеля. Публикация житий и жизнеописаний популярных святых сопровождалась взвешенным обсуждением того, насколько описанные «чудеса» соответствуют православному богословию. Православный цензор выступал в роли трезвого критика, не отрицающего чудесное явление, но находящегося в согласии с шотландским философом Дэвидом Юмом, который писал, что «всякое свидетельство чуда, даже весьма возможного, всегда намного меньше, чем доказательство». Так, в 1854 году архимандрит Иоанн (Соколов) рецензировал жизнеописание Серафима Саровского, составленное иеромонахом Иоасафом (Толстошеевым). Известное предание о явлении Божией Матери Серафиму описывалось цензором так:
Из этих явлений только одно описывается довольно обстоятельно, но при этом излагаются некоторые слова Богоматери, не совсем понятные и странные: «это лежит нашего рода». О прочих же явлениях Ея говорится без всяких объяснений и доказательств. Так как столь многократного посещения матери Божией не видно в жизни и великих и прославленных Церковью святых, то – с одной стороны, чтобы прежде официальных начальственных исследований о лице Серафима, от этого не возбуждались какие-либо недоумения относительно жизнеописания Серафима, а с другой – чтобы и не отрицать видений Серафима без дальнейших исследований, я полагаю, исключив отдельные сказания о четырех видениях, оставить одно замечание, что старец Серафим по вере был удостоен явления Матери Божией 143 143 РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1492. Л. 23.
.
Читать дальше