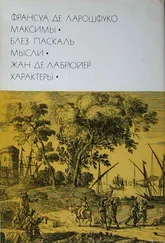Однако, голод не тётка, пора и честь знать. Холодный цыплёнок, бриошь и шабли. Великолепие скромной трапезы вечного холостяка и затворника.
Снова глоток вина и новый росчерк пера. О чём теперь поведает миру моё гусиное перо? Может быть, сны про императора, которые приснились вашему покорному слуге в ночь на тридцатое марта 1792 года, в то жуткое время, когда над сонной бухтой в Сен-Мало разразился преужаснейший шторм и многие лодки были снесены в море. Я помню, как мерцала свеча и как мои глаза закрывались, готовые увидеть иную реальность. Я уснул. Новый росчерк пера и снова я вижу эти картины, приводящие меня в трепет. Немного вина, чтобы согреться и я продолжаю. Это история другого человека, увиденная мной во сне. По скрипу гусиного пера вы догадаетесь о том, что я её записал в своём дневнике.
Бывают сновидения подобные легкому дуновению сирокко над прибрежной полосой океана или над прозрачной галькой пляжной линии Адриатического моря в Бриндизи: они столь мягкие и изысканные, что ищешь любым способом продолжения этого сна, столь внезапно прервавшегося и ускользающего в небытие. Но все напрасно, сколь не прискорбен этот факт: взамен тому будоражащему душу сказочному сновидению являются лишь бледные тени воистину гипнотических шедевров, растаявших навсегда.
Однако, сны Императора были совсем иного рода: они были яркими и гиперреалистичными, особенно здесь, в поместье Лонгвуд, где майский сад был полон умопомрачительных ароматов жимолости, чайных роз и пряного померанца.
Что за сны тревожили бывшего властителя человеческих дум?
Было ли это полыхающее марево над Бородинским полем, клубы черного дыма над золотыми куполами московского Кремля или тяжелый удушливый пороховой туман у стен Ваграма: все казалось столь натуральным, что даже в глубине своего сновидения Он явственно ощущал запах дыма и будоражащий и такой древний солоноватый привкус крови на своих губах. Порой проснувшись от таких снов, Он, глядя на массивную плоть великого океана, словно в зеркале видел отражение своих прошлых дней: сухой октябрьский полдень, бой барабанов, конское ржание, смешанное с пьяной руганью бранденбургских гусар, звук походной трубы, остроконечные шпили лейпцигских церквей и соборов, терракотовую плитку крыш, столь идеально сочетающуюся с кружащейся осенней листвой. И дорога на Париж по разоренной местности, готовой вот-вот первым девственным снегом скрыть от глаз наблюдателя изъяны человеческой деятельности.
Лишенный возможности активной деятельности, к которой Он так привык, Император, запертый «этими чертовыми англичанами» посреди бескрайнего океана, предавался праздному бездействию. Часто Он совершал продолжительные прогулки по влажной береговой линии в одиночку или со своим неизменным адъютантом, бароном де Лас Казом, и теплый океанский бриз ласкал подолы его старого, пропитанного ароматом сражений, маршальского мундира.
Он много читал, иногда что-то писал, жуя табак, но чтение доводило его часто до некоего отупения, вослед которому являлась к нему апатия и безразличие к окружающему миру. Тогда бросив книгу или перо, он садился на террасу и, не спеша, потягивал густой янтарный коньяк, который на время даровал ему забвение и покой. Я бросаю перо, я не могу больше писать, продлевая тем самым агонию великого человека. Губы сами собой припадают к бокалу с кларетом, и я потихоньку замираю в тишине. Слышно, как дрозды щебечут в кронах вековых деревьев. Нежный аромат гелиотропа исходит от грядки с цветущей фасолью. Одинокий и сладостный. В моих мечтах вновь возникают образы, и рука сама собой тянется за гусиным пером.
Шатобриан снова хочет писать? Возможно, да. Или возможно, нет. Он ещё не решил, хоть и полон желаний сделать что-то полезное для этого дня, а может, для самого Господа Бога, если Тому это будет угодно! Слащавый пафос. Величественная чушь! Сколько сомнений нужно Шатобриану, чтобы заполнить ими прибрежную бухту в Сен-Мало? Я был нищий духом, хотя, может быть, и сейчас являюсь таковым. И если во мне нет подлинной любви, то кто я тогда, как не звучащий в пустоте кимвал, вопиющий в поисках той самой пресловутой любви? Но всё же, несмотря ни на что, имение своё я не отдам и тело своё на сожжение тоже, оно должно быть погребено стоя на вершине Гран-Бе.
Бремя известности тяжело, кто этого не понимает, просто – кретин. Часто меня спрашивают, как я ощущаю свою известность? Да, никак! Она как-то есть и всё, может быть, даже помимо моего желания. Я не удивлюсь, если кто-то извлечёт из этого пользу, даже без моего ведома. Merde!
Читать дальше