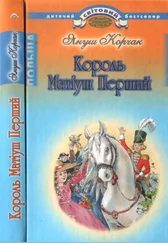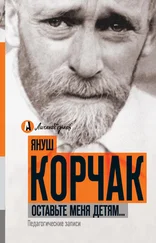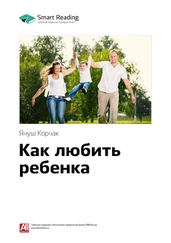[ 1940–1942? ]
Пани Воланьская 216умерла.
Пани Восю помнят старшие воспитанники. Она была прачкой на Крохмальной, скромной прачкой еврейского интерната.
Сапожное ремесло всегда было самым презренным среди ремесел. «Пойдешь к сапожнику!» – грозили мальчикам, не хотевшим учиться. Сапожник – пьяница. Говорят: «Зол, как сапожник», «сапожницкий понедельник» – когда с похмелья прогуливают работу.
Это все должно значить, что каждый сапожник – неуч, пьяница, скандалист, лентяй, который не работает в понедельник, потому что воскресная водка у него еще не выветрилась из башки. Пьяница, лентяй, бракодел.
Пока не нашелся юноша, который закончил университет и мог стать адвокатом. Но нет: молодой, богатый, образованный – он стал сапожником.
Он не захотел стать работником умственного труда, а из физического труда выбрал самую презренную профессию.
У женщин такой презренной профессией была работа прачки. Прачек-евреек не было вообще.
Самая бедная семья, даже нищие и попрошайки, отдавали стирать белье гойкам 217.
Посудомойка, картофелечистка, публичная девка – любое занятие считалось лучше, благороднее, интеллигентнее.
«Жидовская прачка» – худшая кличка, самое страшное оскорбление, и стыд, и унижение. Позор: жидовскую грязь стирать, вшивые загаженные тряпки.
Пани Вося рано осиротела, выросла в интернате. Молодая, красивая, сильная, умная, работящая, она стала прачкой в Доме сирот. Тяжелая работа. Ответственная работа.
Прачечная механизированная, поэтому машина, центрифуга, электрический каток для белья, кожаные ремни передач. Мотор.
Опасная работа. Можно было с легкостью лишиться руки. Одно неосторожное движение, секундная невнимательность – и смерть или увечье.
Пани Воланьская знала свою машину. Не только знала, но и любила ее. Она полюбила холодный полуподвал и все орудия своего труда. И детей еврейских полюбила.
У нее было двое своих детей: слабенькая Иренка и медвежонок Владек. Были война и голод. Она не делила детей на своих и чужих. А когда пришла зараза, она сама носила больных сыпным тифом в больницу 218. Не боялась вшей и болезней.
В Доме сирот разное бывало – чаще плохое, чем хорошее. Дети всегда были и плохие, и хорошие. Работа всегда была тяжелой, а зарплата – маленькой.
Мы жили в беспокойном квартале. Уличные хулиганы задирали девочек за то, что они девочки, мальчиков за то, что они мальчики, старших ребят за то, что они постарше, маленьких – за то, что они маленькие.
Пани Вося всегда выходила за ворота, ругалась и защищала, хотя могла получить по голове кирпичом или булыжником, хотя и знала, что ей будут кричать: жидовская прачка, шабесгойка.
Шли год за годом. Дети росли, а она старела и все больше уставала.
Я говорил ей:
– Пани Вося, поляки принимаются за торговлю. Мы одолжим вам деньги. Возьмите себе какой-нибудь продуктовый магазинчик, кафе, хоть буфет на вокзале. Мы вам поможем.
Она не хотела.
Почему не хотела?
А почему береза не хочет, чтобы ее пересаживали куда-нибудь, где и земля получше и поспокойнее?
Она знала, что она нужна, знала, что она полезна; знала, что никто другой не справится со старой машиной, испорченным бельевым катком и растянутым ремнем передачи, который нужно было латать, укорачивать, переставлять защелки, подталкивать.
Я помню: небрежная девочка оставила иголку в халатике. Пани Вося уколола палец. Рука распухла – а она ремень чинит.
– Да вызовите вы шорника!
– Э-э-э, шорнику-то сразу платить нужно. Да мне и помогут… я лучше сама.
Я слишком уважаю память верного друга, чтобы утаить что-то, что было в ее характере, что-то, чем была она сама. Словно я ее прощаю или не хочу говорить про нее плохо.
Да, пани Вося время от времени что-то брала: то свитер, то полотенце, то простыню.
Пани Вося не была нечестной. Она имела право взять то, что было точно так же и ее собственностью.
Ведь одна только небрежность, одна минута невнимания или желание облегчить себе работу – и белье могло сгореть, испортиться или бесповоротно сгнить.
Поэтому она не брала втихаря, а одалживала, не спрашивая, можно ли взять. Потому что знала, что отказать ей никто не осмелится.
Для вытирания пола в туалете были две красные фланелевые тряпки. Как-то раз я спрашиваю на собрании воспитателей 219, почему пол не вытирают насухо.
– Я дам тряпки, – говорит пани Вося. – У меня есть, я дам, я поищу, я одолжу.
Тот, кто обвинил бы ее в нечестности, оклеветал бы ее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу