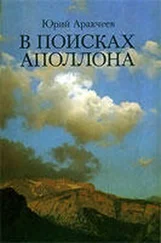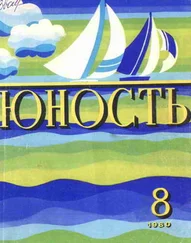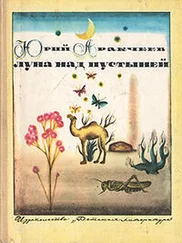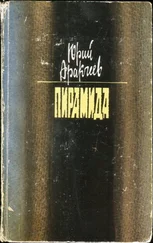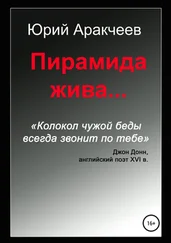И я сел. И написал к половине второго ночи. И получил потом пятерку за свое сочинение – его, как это было не раз с моими сочинениями, преподаватель читал вслух всему классу. А я запомнил на всю жизнь тот вечер и ночь. И очень благодарен сестре. Как и Валерке Гозенпуду, моему соседу и другу детства.
Что же касается Аллы, то о ней я только лишь фантазировал. От одной мысли о ней, при воспоминании о ее лице, глазах, белейшей восхитительной коже на шее, руках, которые я видел однажды обнаженными до плеч, при одной лишь рискованной, робкой попытке догадаться, что скрывается за приподнятой материей платья на ее груди, голова начинала кружиться, в глазах поднимался туман, их хотелось вообще прикрыть, сердце начинало свой сумасшедший ритм, грудь вздымалась, а там, внизу, в горячей истоме что-то одновременно и сладко таяло, и напрягалось до боли, до звона. Но вот что интересно: мои фантазии все же не шли дальше, то есть ниже и ее, и моего пояса. Хорошо помню, что даже попку ее – эту гениально созданную Творцом часть тела женщины – я себе не представлял и не помню вовсе, какая она была у нее, как угадывалась сквозь платье или юбку. Не говоря уже о святых, так знакомых теперь, через годы, милых складочках-лепестках… Нет, это и вовсе в полнейшем неведении – то ли во мраке, то ли, наоборот, словно в огне, – я тогда даже не представлял себе, как они во взрослом состоянии выглядят, хотя и помнил, разумеется, жутко волнующую картинку, то есть рисунок из учебника анатомии. Когда же увидел впервые много лет спустя с близкого расстояния – поразился: совсем иначе себе представлял, да и на картинке выглядело иначе…
Да, мои фантазии ограничивались объятиями, нежными поцелуями. В губы, в шейку, самое большее, то есть самое низкое территориально – в грудь. Не ниже. Но и этого вполне хватало. Еще, правда, было световое, музыкальное и парфюмерное оформление в моих мечтах: притушенный красноватый свет, аромат духов – обязательно! – ковры, широкий диван или тахта, почему-то красное стеганое атласное оделяло. Музыка тихая, медленная (флейта… кларнет…). И наше молчание. Не нужно слов, объяснений. Пусть говорят чувства, а также губы, руки, движения наших тел… Я тогда и представить себе не мог – да ведь не слышал никогда – лучшую на свете музыку: взволнованное, сбивчивое дыхание, стоны, крики, отрывистые слова… Да где уж.
«…И вот вчера вечером мы решили устроить танцы в моей комнате. Из девчонок пригласили Аллу и ее подруг…»
О, потом-то я понял, какой это был рискованный и опрометчивый шаг – тем более после новогоднего моего позора. Вот теперь, с расстояния прожитых лет, вижу: комната была моей неразрывной частью, вернее даже не она, а я был порождением и частью ее – гомункулус, двуногое, двурукое головастое существо, рожденное в глубине матки-комнаты, концентрирующее в себе (до сих пор не перерезана пуповина) волны, вибрации, запахи, исходящие от ее древних стен, оклеенных в то время серо-зелеными, выцветшими, кое-где оторванными, отставшими от штукатурки и слоя газет обоями, грязного, закопченного потолка с лепными карнизами, уцелевшими с дореволюционных времен, с наружной, кое-где провисшей, отцепленной от кругленьких белых изоляторов электропроводкой, стареньким оранжевым пыльным, потрепанным абажуром. Высокая, до самого потолка, побеленная прямоугольная колонна печи возвышалась справа от входной двери. Над железной дверцей ее красовалось черное пятно копоти, похожее на закругленный язык; под большой этой дверцей была и еще одна, маленькая, за которой открывался зев поддувала, где скапливались залежи серой мягкой золы, тихо струящейся на округлый кусок почерневшей жести, прибитой к паркету пола. В зимнее время печь занимала, разумеется главное место в иерархии комнатных ценностей, топка ее была настоящим искусством, которое я осваивал с детства. Тепло печи – энергия нашей мрачной военной и послевоенной жизни…
Выбрать сначала полено посуше, желательно, конечно, сосну, очень хорошо, если смолистую, толстым ножом нащепать из него лучинки – ставя полено на один торец, на другом отмерить тоненькую полоску от края и, вонзив в узор годовых колец бывшего дерева лезвие ножа, навалиться на него всем телом, левой рукой надавливая на тыльное тупое ребро лезвия, а правой на рукоятку, и с характерным шипением, треском сползать вдоль полена, отделяя от него полосу маслянисто-желтой свежей лучины, вдыхая острый, пряный, иногда кисловатый аромат леса. Потом еще, еще… До сих пор при воспоминании начинают тотчас ныть набухающие ладони и вот-вот выступят красноватые полоски от тупого тыльного ребра лезвия… Наконец, лучинок достаточно – я кладу смятую в комки бумагу в закопченное мрачное жерло топки, а еще лучше, если бело-розовые завитки бересты, сверху выстраиваю аккуратный шалашик лучины, на него – потоньше и посуше поленья, так, чтобы между ними оставались достаточно широкие щели, – теперь только чиркнуть спичкой, поджечь аккуратно… Если дрова сухие, то очень скоро веселое бойкое пламя охватывает все сооружение, возникает устойчивая воздушная тяга – печь начинает дышать… Дверцу нужно закрыть, а нижнюю – поддувало – слегка приоткрыть. И вот уже гудит, играет буйный огонь, лихо посверкивая сквозь щели между дверцей и кирпичами – «спящая царевна» ожила! – и большое, мощное тело ее дрожит от сдерживаемого восторга… Воздух в комнате становится свежее, чище, хотя попахивает чуть-чуть горьким, смолистым дымком. Жизнь просыпается во всех нас…
Читать дальше