— Без шансов, он же переболел только что. Я ещё подумал, что по симптомам необычно, атипичные признаки, лимфоузлы воспалились, но я списал симптомы на перемену климата или на необычность гриппозного штамма. Однако теперь-то… — медик упорно смотрел в пол, не желая встречаться глазами с Тэйтоном. — Боюсь, что эта ведьма утащит его с собой на тот свет.
Долорес чуть приметно вздрогнула, пошевелив губами, но ничего не сказала.
— Я виноват, — Арчибальд Тэйтон запрокинул голову назад, и его лицо снова уподобилось лику святого Себастьяна, пронзённого стрелами.
— Почему вы скрывали её болезнь? — Хэмилтона сильно зазнобило.
— Эта болезнь — проклятие, — Тэйтон явно оправдывался. — Поймите, она сама по себе страшна, но это полбеды. Она изолирует, лишает поддержки и только усугубляет беду. Я не любил эту женщину, гневался и стыдился из-за вынужденной лжи и тех способов, которыми добивался сокрытия тайны, но гнев на неё был хуже всего. Ей приходилось принимать в огромном количестве таблетки и тошнотворные микстуры, бороться с множеством заболеваний, начиная от лишая и заканчивая пневмоцистной пневмонией, а в последний год и саркомой. Она была обречена на постоянные анализы, разговоры о новой вакцине, наблюдение за уровнем лимфоцитов в крови, который неуклонно приближался к роковой отметке. Диагноз на несколько лет опережал смерть, он отсчитал ей точный срок, а связанное с болезнью клеймо делало её переживания чрезвычайно мучительным. Я понимал это, но она была ведьмой, она не хотела смириться и осознать беду, не хотела умирать одна, говорила, что утянет за собой кого только сможет. Я не мог оставить её с сиделкой в Лондоне, просто боялся, что без меня она сумеет найти себе жертву. Но я и помыслить не мог…
— Прекрати, — возмутился Хейфец, — чего ты извиняешься? Я дюжину раз говорил этому сопляку, чтобы он держался подальше от миссис Тэйтон. Я твердил ему, что нечего лезть в чужую семью, что попытка наставить рога другому часто оборачивается тем, что вы остаётесь с носом. Если он предпочитал меня не понимать — тем хуже для него.
— Но Дэвид, так нельзя…
— Это почему?
— Милосердие…
— Уймись ты со своей христианской жалостью! — взвизгнул Хейфец. — Он был безжалостен к тебе, радовался, наставляя тебе рога, и ликовал, что сумел тебя одурачить. Он был к тебе милосерден? В итоге он одурачил самого себя, но глупо думать, что это скорбное событие тяжким бременем ляжет на мою совесть. Я его предупреждал.
— Но мистер Хейфец… — в разговор вмешался все это время молчавший и сидевший в углу Лори Гриффин, — ведь мальчик… Стив просто влюбился. Вы не должны, это жестоко.
— Я не делаю долгов и живу по средствам, — отрезал разозлённый медик, — и никому ничего не должен. Влюбился… — врач зло хмыкнул. — Она же распадалась и гнила заживо, была одержима только одной мыслью — самой дурной и мстительной — утащить с собой на тот свет как можно больше народу, а он, влюблённый, этого, вы хотите уверить меня, не заметил? Если нет, то он просто слеп и глуп. Какая любовь? Что он в этой злобной твари мог полюбить? Круглую задницу с родинкой? С таким же успехом мог заказать себе резиновую куклу — его дурное воображение и её окрасило бы флёром неземной красоты.
— Я всё же должен был ему сказать, что она больна, — пробормотал Тэйтон. — Просто я не замечал его: химик-практикант, совсем мальчик… мне и в голову ничего не приходило. Но если ты замечал, что он кружит вокруг неё, ты должен был…
Хейфец, уверенный в своей правоте, отмахнулся.
— Что должен? Я дал тебе слова никому об этом не распространяться и молчал. При этом она лезла ко всем — к Бельграно, к Лану, полезла бы и к Карвахалю, если бы не ненавидела их с сестрицей, но все они мудро шарахались от неё. А этот… любил он, видите ли… — Хейфец зло скривился и неожиданно как-то спокойно и даже задумчиво добавил. — Мне часто кажется, что наши беды вызваны дурным искажением языка. Некое слово, которое почему-то ушло, забылось или изменило значение, мешает нам понять суть. И я вспомнил его. Это слово — «похоть», оно почти не вспоминается, кажется несуществующим, но оно есть и каждодневно умело прикидывается любовью. Так умело, что и не отличишь. Мальчишку всего-навсего распирает похоть, он становится слеп и глух, перестаёт мыслить здраво, на глазах тупеет, совершает поступки, которых сам стыдился бы, будь он в здравом уме, он превращается в наркомана, зависящего от очередной блудной дозы, а мы говорим, что это любовь? Опомнитесь. Любовь встречается столь же редко, как гений. А это простая похоть, вожделение без любви, со всеми атрибутами любви, но на деле — пустота. Но вот беда, слово… слово ушло, забылось, и вместе с ним исчезло и понимание. Мы теперь и определить-то уже не можем, чем это — неназываемое и ставшее непроизносимым, — отличается от любви? А это — обычное блудное помешательство, наркомания распутства, страстный алкоголизм, но чем опьянение женским телом лучше опьянения вином?
Читать дальше


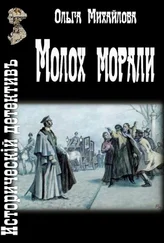






![Ольга Михайлова - Книжник [СИ]](/books/406440/olga-mihajlova-knizhnik-si-thumb.webp)
![Ольга Михайлова - На кладбище Невинных [СИ]](/books/413272/olga-mihajlova-na-kladbiche-nevinnyh-si-thumb.webp)

