— Может, это всё же и не диктерион? — предположил Бельграно.
Карвахаль пожал плечами.
— Для обычного дома такие клетушки не характерны. Тут восемь кубикул — по четыре с каждой стороны коридора. Типичное устройство греческого лупанара. Всё для удобства блудниц. Но это добротная живопись, будь я проклят. Ничего не понимаю.
Сверху их накрыла тень, археолог сразу умолк, полагая, что это спускается фрау Винкельман. При ней Рамон Карвахаль, как заметил Хэмилтон, никогда не произносил слов «блудница» или «блудилище» и вообще не говорил ничего, не касавшегося археологии. Но к ним спустился исполненный неподдельного любопытства Дэвид Хейфец, привлечённый рассказом Сарианиди, что Карвахалем обнаружены порно-фрески в третьей комнате второго раскопа. В руках врача был Hasselblad H4D-60 с огромным объективом. Хэмилтон удивился: это был лучший профессиональный девайс, и Стивен спросил себя, откуда он у Хейфеца. При этом оказалось, что снимал медик умело, как заправский фотограф. Отщёлкав находку со вспышкой и без неё, Хейфец странно хмыкнул и с любопытством огляделся.
— Тут не особо-то развернёшься, не отель Хилтон, — презрительно обронил он и снова бросил на стену взгляд, ставший вдруг острым и въедливым. — Странно-то как. А куда девалась физиономия этой мессалины?
— Я соберу её, Дэвид. Скол образовался при раскопках, — успокоил его Карвахаль.
— Странно-то как… Она блондинка или крашеная? — полюбопытствовал медик.
— Трудно сказать, — задумчиво отозвался Карвахаль. — В Древнем Риме жрицам любви запрещалось быть брюнетками. Возвращаясь из походов, римляне привозили с собой рыжих или светло-русых пленниц из Европы, которые становились рабынями или проститутками. И даже был издан указ, что все жрицы любви должны красить волосы в яркие оттенки, дабы их не перепутали с порядочными римлянками-брюнетками. Но потом этот цвет понравился римлянкам. Поставщицы блудных услуг в силу специфики работы часто первыми применяют все достижения индустрии красоты.
— И чем же они осветляли волосы?
— Они протирали их губкой, смоченной мылом из козьего молока и золой букового дерева, а затем высушивали на солнце. Рецепты ассирийских травников советуют для окрашивания волос смешение китайской корицы, кассии, и лука-порея. А в Греции использовались составы на основе извести, киновари, талька и буковой золы.
— Подумать только…
Появились Гриффин с Тэйтоном, последний спросил Хейфеца о снимках некрополя, тот ответил, что всё нужное сделал, и тут Тэйтон заметил фреску. Он включил фонарь на смартфоне и осветил картину.
Карвахаль, Гриффин, Бельграно обступили Тэйтона. Воцарилось странное молчание. И тут спонсор экспедиции вдруг резко развернулся и пошатнулся всем корпусом. Его бледное лицо посинело, губы, казалось, совсем пропали с лица. Голова запрокинулась назад, явив в какой-то миг то страдальческое выражение, что проступает на лице святого Себастьяна кисти Гвидо Рени. Смартфон выпал из его ослабевших рук.
Хейфец, растолкав всех, ринулся к Тэйтону, с другой стороны его подхватил подоспевший Карвахаль, Тэйтон тяжело опустился на ложе и тут же, задыхаясь, точно подлинно пронзённый стрелами, начал хватать ртом воздух. Хейфец молниеносно снял с шеи и сунул в руки Бельграно фотоаппарат, подогнул Тэйтону ноги, опустил его голову с ложа, одной рукой вытащил из сумки за спиной аптечку, другой просчитал пульс, зашуршал целлофаном и через несколько секунд уже всадил в плечо обморочного шприц.
— Это солнечный удар, он целый день без головного убора, говорил же я ему, голову нужно прикрывать, — быстро затрещал Хейфец, с необычайной ловкостью упаковывая целые ампулы в аптечку и снова вставая.
Хэмилтона повеселило то, что сам Хейфец, курчавый и черноволосый, не потрудился надеть головной убор, однако на перегрев отнюдь не жаловался. — Ничего-ничего, — продолжал тем временем медик, поворачиваясь к Тэйтону и отточенными движениями слегка разминая тому шею. — Он уже приходит в себя.
Это соответствовало действительности. На лицо Арчи Тэйтона возвращались краски, губы приобрели свой естественный цвет, но глаза под выпуклыми веками всё ещё были закрыты. В эту минуту, несмотря на неприязнь к этому человеку, он показался Хэмилтону удивительно красивым.
Через пару минут Арчибальд Тэйтон окончательно пришёл в себя, смог подняться. Глаза его, правда, выдавали растерянность и неловкость. Хэмилтону показалось, что Тэйтон хочет ещё раз взглянуть на фреску, но не решается. Хейфец крутился вокруг него и продолжал вещать о солнечном ударе.
Читать дальше


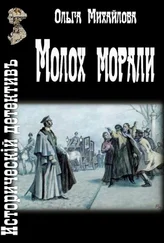






![Ольга Михайлова - Книжник [СИ]](/books/406440/olga-mihajlova-knizhnik-si-thumb.webp)
![Ольга Михайлова - На кладбище Невинных [СИ]](/books/413272/olga-mihajlova-na-kladbiche-nevinnyh-si-thumb.webp)

