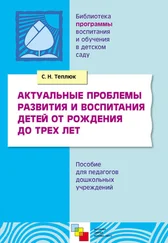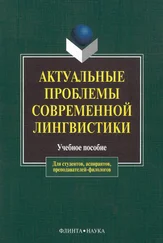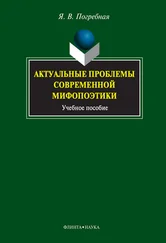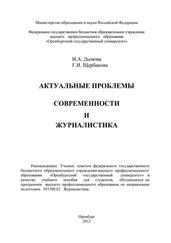По глубокому убеждению В. В. Кумарина, А. C. Макаренко вообще не признавал „воспитывающее обучение“ и не применял такое в своей деятельности. Вот каким образом он обосновывает это. Защищая „воспитывающее обучение“, которое оправдывало стандарт, профессор П. Н. Шимбирев обвинил Макаренко в том, что тот“ в своих воспитательных мероприятиях не использовал в качестве эффективного воспитательного средства процесс обучения», что «обучение в колонии не являлось воспитывающим». Отсюда характерные для Макаренко поиски какой-то особой техники воспитания, «действующей независимо от обучения» (УГ, 1940 г., 2 июля). По мнению Кумарина, эта критика была саморазоблачительной, так как ее автор фактически утверждал, что А.C. Макаренко не признавал существования «воспитывающего обучения». Если бы он признавал и применил бы это, то не потребовалось всего того, без чего ни колония им. Горького, ни Коммуна им. Дзержинского никогда бы не состоялись, как не состоялась бы и сама теория Макаренко (5, C. 14). А вот как думает сам А. C. Макаренко: «Труд без идущего рядом образования… не приносит воспитательной пользы, оказывается нейтральным процессом» (6, C. 112). «Я вскоре пришел к убеждению, что в системе трудовой колонии школа является могучим воспитательным средством… твердо убежден, что перевоспитание настоящее, полное перевоспитание, гарантирующее от рецидивов, возможно только при полной средней школе» (6, C. 108). «Вообще я считаю, что перековка характера и перевоспитание правонарушителя возможно только при условии полного среднего образования» (6, C. 204). Так же думал и Песталоцци: «Без образования… расчет на какую-либо повышенную культуру народа, даже в самом отдаленном будущем, является химерой» (12, C. 355). Изданные труды А. C. Макаренко показывают, что процесс обучения он считал важнейшей частью общего процесса воспитания, т. е. никогда не представлял воспитания без обучения.
Макаренко выступал против их отождествления: «Есть убеждение, что никакой особенной, отдельной методики воспитательной работы не нужно, что методика учебного предмета должна заключать в себе всю воспитательную мысль, я с этим не согласен. Я считаю, что воспитательная область чистого воспитания — есть в некоторых случаях отдельная область, отличная от методики преподавания. Что меня в этом убеждает? В Советской стране воспитанию подвергается… каждый гражданин на каждом шагу. Подвергается воспитанию либо в специально организованных формах, либо в формах широкого общественного воздействия. Каждое наше дело, каждая кампания, каждый процесс в нашей стране всегда сопровождается не только специальными задачами, но и задачами воспитания» (6, C. 107). «Все-таки и теперь остаюсь при убеждении, что методика воспитательной работы имеет свою логику, сравнительно независимую от логики образовательной. И то, и другое — методика воспитания и методика образования — по моему мнению, составляют два отдела: более или менее самостоятельных отдела педагогических наук. Разумеется, эти отделы органически должны быть связаны» (6, C. 109). При чтении этих строк невольно предполагаешь, что их автор, употребляя термины «методика образования» и «методика воспитания», все-таки не считает обучение процессом воспитания. Однако после этих строк он пишет: «Разумеется, всякая работа в классе есть всегда работа воспитательная. Но сводить воспитательную работу к образованию я считаю невозможным» (C. 109). Понятно, что методика воспитания посредством обучения отличается от методики воспитания посредством внеучебной деятельности. Макаренко процесс обучения тоже считает воспитанием, но не сводит все воспитание к обучению. Главное здесь то, что великий педагог считает обучение важнейшим процессом воспитания. Так думал и Ж. Ж. Руссо: «Вы отличаете учителя от воспитателя — новая нелепость. Разве вы отличаете ученика от воспитанника?» (12, C. 212). Критикуя гербартовское «воспитывающее обучение», В. Кумарин с присущей ему иронией пишет: «Расшифровка этой формулы (Из мыслей вытекают чувствования, а из них — принципы и поступки.- C.М.) простая: начинаем учебные дисциплины „воспитывающими“ текстами, и процесс воспитания „пошел“. Даже математику можно сделать „воспитывающей“, что уж говорить об истории или литературе?» (4, C. 5).
Неужели он на самом деле уверен, что уроки математики не воспитывают? Вот что пишет Дж. Локк об этом: «Если вы хотите, чтобы человек хорошо рассуждал, вы должны приучать его с ранних лет упражнять свой ум в изучении связи идей и в прослеживании их последовательности. Ничто не способствует этому в большей степени, чем математика, которую поэтому должны, по моему мнению, изучать все, кто имеет время и возможность… чтобы стать разумными существами» (12, C. 181). Как можно писать о Макаренко и в то же время утверждать, что уроки истории и литературы не воспитывают? Ведь сам Антон Семенович прямо пишет: «История, конечно, воспитывает. Воспитывают и литература, и математика, но нет никакого права ограничивать воспитательный процесс классной работой» (7, C. 158). А в статье «Учитель словесности» А. C. Макаренко пишет: «С юношеских наших дней отдельная, какая-то особенная, светлая и тревожная память осталась о „Слове“, вспоминали о „Слове“ с неожиданным непонятным удивлением, с необъяснимой теплотой и благодарностью неведомому, чудесному поэту, полному страсти и очарования, искренности и красоты, мужества и торжественности. Собственно говоря, в то время мы не могли различить, объясняется наше впечатление могучей силой самого „Слова“ или силою души нашего преподавателя словесности. Читал он просто, без приемов декламаторских, но он умел незаметно вложить в каждое слово столько чувства, такую убежденность, что древнее слово неожиданно хватало за сердце» (8, C. 115–117).
Читать дальше