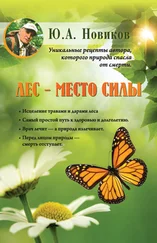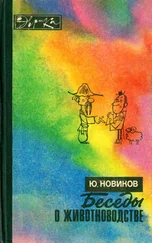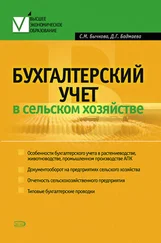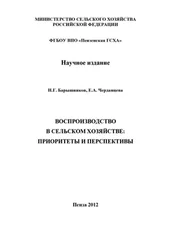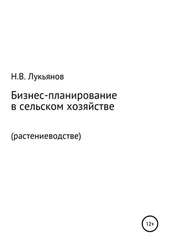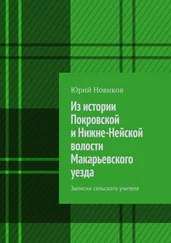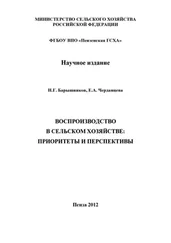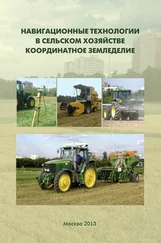Прочную основу эта точка зрения получила благодаря примеру планового природопользования в СССР. Последовательное, в течение шестидесяти лет, проведение в жизнь социалистических принципов хозяйствования превратило одну из самых отсталых стран мира в гигантскую промышленную державу. И этот невероятно быстрый процесс индустриализации не повлек за собой столь катастрофического разрушения среды, какое имело место, скажем, в процессе капиталистического развития американского государства.
- Итак, нажать на стоп-кран не удается - это очевидно. Мир будет по-прежнему развиваться "неестественно". Сельское хозяйство будет превращаться в агроиндустрию. К чему это приведет?
- В первую очередь к росту экономического благополучия. А во вторую... Подсчитано, что если к 2000 году развивающиеся страны достигнут современного уровня производства и потребления в странах развитых, то засорение среды возрастет. Хватит ли нам чистой воды, земли и воздуха?
- Вот именно, хватит ли? Как сказал один юморист: ища другие цивилизации, на всякий случай сохраните свою! Так ли уж нужна эта повальная агроиндустриализация? Я читал, что один фермер вырастил картофельный клубень весом в 49 килограммов. Вот была бы вся картошка такой - и никаких хлопот...
- Не все делается так, как в популярной сказке "Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая!" У деда с бабкой всего и хлопот-то было - вытащить означенный плод. В несказочных условиях их значительно больше.
В решении вопроса - "Можно ли вернуться назад к природе?" - наиболее компетентен, вероятно, Т. Хейердал. После окончания колледжа он поставил эксперимент "пересадки в дикость". Подопытными-были он сам и его жена. Прожив некоторое время в условиях каменного века на одном из тихоокеанских островков, они бежали из "обретенного рая". Пришлось оправдываться:
"Нам вовсе не хотелось уезжать. Не х-отелось возвращаться к цивилизации, но нас подгоняла сила, которой было невозможно противостоять. Зов муравейника... Мы чувствовали, и я по сей день чувствую, что п-ервозданную природу можно обрести лишь в одном месте. В своей собственной душе".
Хейердал сделал вывод: "Мы находимся в пути. Назад возвращаться нельзя, но это еще не означает, что любая дорога вперед означает прогресс".
В течение 1200 лет, со II по XIV век нашей эры, Европа испытывала давление со стороны кочевых народов Азии. Гунны и половцы, торки и печенеги, венгры и кыпчаки, татары и монголы волна за волной прорывались со своими бесчисленными стадами в южнорусские степи и далее на запад, в Центральную Европу. Все эти народы шли по коридору между Уралом и. Каспийским морем. Пробитая ими тропа отчетливо видна и по сей день: это волжско-уральские пески.
Был ли выбор у человека прошлого? Что бы изменилось, найдись среди гуннов или монголов некий гений, сумевший предвидеть грядущее опустошение степей?
Разве смог бы он остановить несметные орды, гонимые бескормицей и голодом, алчностью и нуждой?!
Сейчас не нужно быть гением, чтобы предвидеть последствия "нерасчетливого" хозяйствования. Однако большая ли у нас свобода выбора, чем у гуннов?.. Наверное, все-таки да. Но ведь и ответственность неизмеримо большая! Гунны вытоптали одно Поволжье, человечество рискует вытоптать весь мир...
В 1944 году в Мексике был создан Международный центр по улучшению сортов кукурузы и пшеницы. Возглавил его 30-летний американец Н. Борлауг. Перед центром стояла задача: "помочь Мексике помогать себе самой".
В 40-х годах Мексика ввозила более половины потребляемой пшеницы. Урожайность последней, несмотря на орошение, не превышала 8 центнеров с гектара. Почвы были истощены, страна находилась в тисках жесточайшей нужды.
Первые высокоурожайные сорта короткостебельной (карликовой) мексиканской пшеницы, созданные Борлаугом, начали распространяться в 1961 году. Уже в 1964 году мексиканцы сняли по 19,7, в 1969 - 25,9 и в 1971 27,9 центнера пшеницы с гектара. К настоящему времени страна практически полностью обеспечивает себя зерном.
Новые мексиканские сорта и их более поздние индийские и пакистанские производные стали главными катализаторами так называемой "зеленой революции".
Мексика, безусловно, самый яркий пример ее действенности. Несколько хуже пошло дело в Индии и Пакистане. В период 1960-1964 годов здесь собрали в среднем по 8,2 центнера пшеницы с гектара, в 1965-1969 - по 9,8, а в 1970-1971 - по 12,6 центнера. В дальнейшем урожайность стабилизировалась на относительно низком уровне - от 11 до 14 центнеров с гектара.
Читать дальше