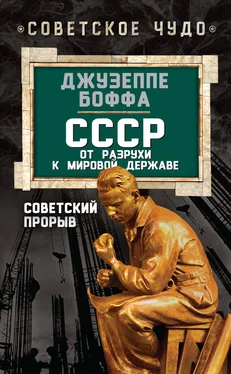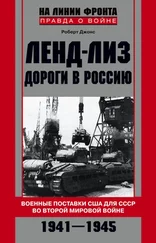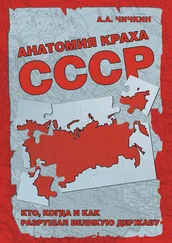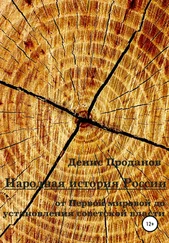В мае 1939 г. после сурового вмешательства Центрального Комитета партии положение было отчасти исправлено. По постановлению ЦК был проведен новый обмер всех индивидуальных участков для выявления и изъятия излишков земли у тех, чьи наделы по размерам превышали установленные нормы: колхозами были отторгнуты у частных лиц 2,5 млн. га. Сверх того, было установлено, что не могут считаться членами колхозов и, следовательно, сохранять право на приусадебный участок те семьи, члены которых не вырабатывают минимума трудодней (минимум равнялся 60, 80 или 100 трудодням, в зависимости от области). По этим же причинам были ликвидированы хутора. В той же резолюции ЦК постановлялось созвать осенью 1939 г. Третий съезд колхозников для внесения новых изменений в Устав сельскохозяйственной артели. В отличие от других решений это так и не было выполнено.
Неудовлетворительное положение дел в советском сельском хозяйстве 30-х гг. – а оно продлится много лет, вплоть до послевоенного времени, – многократно приводилось в публицистике как пример, подтверждающий абсолютную неизбежность провала идеи коллективного труда в сельском хозяйстве. В задачу данной работы не входит всестороннее рассмотрение проблемы социалистического коллективизма в деревне. Единственное замечание, которое представляется правомерным сделать в этой связи, состоит в том, что советский опыт 30-х гг. отмечен исключительными и слишком драматическими чертами, чтобы служить безоговорочным доказательством в этом споре. Слишком слабой была экономическая и техническая база, на которой проводилась коллективизация; слишком судорожным и бескомпромиссным было ее практическое осуществление; слишком тяжким – бремя, которое продолжало тяготеть над деревней и после создания коллективных хозяйств. В подобных условиях результаты вряд ли могли оказаться более благоприятными, чем те, что были получены.
Что же касается истории СССР, то одного этого вывода будет недостаточно. В самом деле, благодаря коллективизации Советское государство обрело два новых и важных фактора силы. Теперь оно могло ежегодно располагать крупными количествами сельскохозяйственной продукции, в первую очередь хлебом и сырьем для промышленности. Для удовлетворения всех потребностей этого количества было пока недостаточно. Тем не менее при сокращении потребления теперь оказывалось возможным накормить города, армию, снабдить заводы и фабрики и – особенно в урожайные годы, такие как 1937 и 1940, – создать необходимые запасы.
С помощью колхозов была достигнута такая «железная» степень унификации страны, о какой не могло даже мечтать старое российское государство. Из края в край необъятной территории, с ее бесчисленными деревнями и селами, где ранее сосуществовали самые различные производственные уклады, была «насаждена» (по сталинскому выражению) единая для всех социальная структура. Разумеется, ей присущи были различия, варьировавшиеся в зависимости от района и особенно заметные в неевропейских окраинных частях страны; однако речь шла не о существенных различиях. Один и тот же способ производства был внедрен на равнинах древней Московии, на бывших землях казачества, в украинских степях, в среднеазиатских оазисах и в тундре Крайнего Севера, среди племен охотников и скотоводов, пасущих стада северных оленей. Все и всякие предшествующие социальные формации были сметены прочь. В целях большей унификации было задумано и территориально-административное деление страны; достижению этой цели, впрочем, гораздо больше способствовало радикальное преобразование деревни по единому, в сущности, образцу.
Самые глубинные различия, сохранявшиеся между разными нациями, были в результате этого серьезно поколеблены и до известной степени притуплены.
Сталинизм. Национальные мотивы
С 1938 г. власть Сталина сделалась безграничной. Уничтожены были, иначе говоря, все препятствия к прямой связи между вождем и народом, которую он использовал как орудие борьбы с руководящим слоем партии и как миф, способный зарубцевать разрывы в социальной ткани общества, вызванные конфликтами начала 30-х гг. Один советский писатель, который смотрит на Сталина отнюдь не с осуждением, описал его размышления, должно быть, довольно достоверно: «Был народ, и был его вождь Сталин… который знает, что нужно народу, по какому пути должен идти народ и что на этом пути совершить. Даже ближайших своих соратников он рассматривал прежде всего как посредников, главная задача которых состоит в том, чтобы неустанно разъяснять партии и народу то, что было высказано им, Сталиным, проводить в жизнь его указания».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу