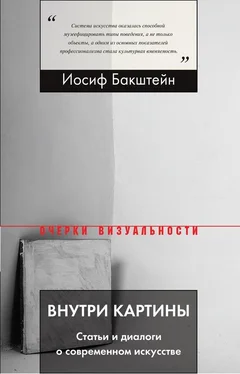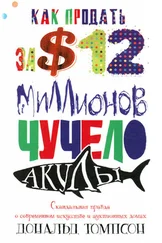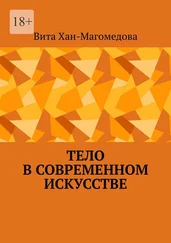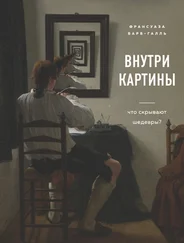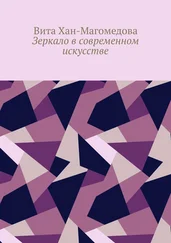Б.Ты говоришь о качестве работ?
М.Скорее, о типе.
Б.Который кажется тебе более предпочтительным?
М.Да, который не раздражают сформированное и направленное на спокойное созерцание и как бы на более-менее комфортное чувство легкого неудовлетворения место в глубине моего сознания. И вот такой чисто этический критерий у меня почему-то обнаружился и по отношению к художественной продукции авангарда.
Б.А почему этический?
М.В каком-то смысле здесь речь идет о внутренней этике твоих собственных мыслительных или эмоциональных реакций по отношению к самому себе. Конечно, здесь есть что-то шизофреническое, расщепленное. Но с другой стороны, эта реакция так или иначе может вырваться и наружу, проявиться, например, в определенной окрашенности интонации во время обсуждения. То есть речь идет о глубинной этике, при включении механизма которой, возможно, оценка отношения способна и сохранить живость ситуации и в то же время быть более открытой, широкой. Но, кажется, это в том случае, если мы сумеем выскочить из диалектической борьбы оппозиции «человек и культура», «человек и реальность». О попытке этого «выскакивания» я и хотел бы здесь говорить.
Б.То есть основа твоих суждений чисто психологическая?
М.Да, конечно, но на уровне реакции.
Б.Но ведь реакция – это еще не нравственность. Это ведь чистое поведение.
М.Да, конечно. Более того, нравственность – это в каком-то смысле философия, а я здесь говорю о философствовании и глубинную этику понимаю как открытый поисковый процесс, аналогичный дискурсу, а может быть, даже как его заменитель.
Б.Но ведь тогда получается, что любая нравственная реакция может быть понятна эстетически. То есть предлагаемая тебе система ценностей не согласуется с системой более тонких, рафинированных ценностей, выработанных тобою. И твоя реакция на это, естественно, эмоциональная. Какую поведенческую форму, акт, поступок повлечет за собой, который может приобрести это нравственное оформление, – прямо такой связи здесь не просматривается.
М.Это очень интересное замечание. Но свою реакцию я оцениваю этически, поскольку эта реакция является предметом изображения тех работ, о которых я скажу дальше. И эта реакция – молчащая. То есть как бы по этому поводу нечего сказать. Я говорю о работах такого типа, которые незаметным образом создают приятную энергетическую среду, не привлекая к себе особенного внимания. Вот, например, когда ты видел мой черный ящик «Музыки согласия», ты говорил, что его как бы не видишь, его как бы нет. Мне кажется, что недавно такую вещь сделал Юра Лейдерман. Книжечка «Шли годы» представляет собой тетрадный разворот, левая сторона пустая, просто бумага в клеточку, на правой сверху, в простом орнаменте написано «Шли годы», под надписью прикреплена маленькая тетрадочка из нескольких листов, заполненных одинаковыми орнаментами, похожими на тот, что обрамляет надпись «Шли годы». Орнаменты внутренней книжечки даны как центр, контентность самой вещи. В ней есть место философствования, место открытия и возможности дискурса, но оно заполнено пустотой. Там пустота дается со знаком плюс, и сказать о ней уже нечего. То есть проблема словесного дискурса снята, хотя место для него оставлено; оно организовано, но заполнено пустотой в виде орнамента, как у Юры, или технической «футлярностью», как в моем ящике «Музыки согласия», или, например, технической же «связанностью» кабаковской веревки со спаренными фигурками человечков. От этой положительной пустоты идет ощущение своеобразной решенности. Здесь пустое место философствования дано в своей техничности, отрефлексировано в своей цельности. Вообще я рассматриваю такого рода языковую деятельность как следующий шаг после постструктурализма.
Б.Который в этом отношении был чем характерен?
М.Постструктуралисты вывели дискурс как экзистенциальную напряженность и как предмет изображения. Его поле крайне обширно, но не инструментально в предшествующем контексте классического структурализма. Дискурс постструктуралистов затрагивает различные уровни и по вертикали, и по горизонтали, в этой хаотичной картине дискурс сделан предметом изображения, то есть стиль оказался в центре и стал самодостаточным. Например, «Наслаждение от текста» Барта, его лекция 77-го года, где он в конце отождествляется с Гансом Касторпом на уровне эмоционального (а не языкового) удивления, затем работы Делёза и т.д. На поверхность у постструктуралистов вылезает сам дискурс, стиль, и не автор им управляет, а он автором. Некоторые из них это осознали и перешли к художественному творчеству, в эстетическую деятельность. Мне кажется, дальнейший ход в философствовании после постструктурализма – это снятие дискурса. Снятие его в качестве предмета изображения, как контентности философствования, как напряженного языкового события.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу