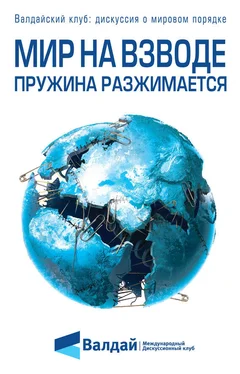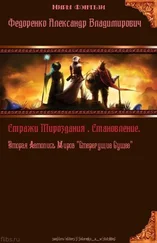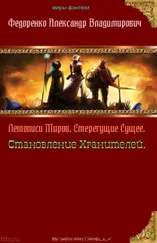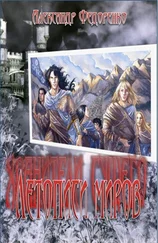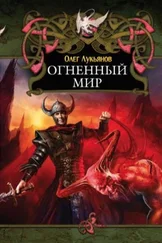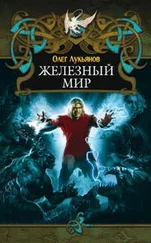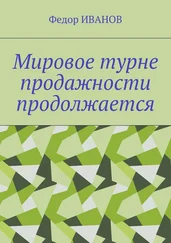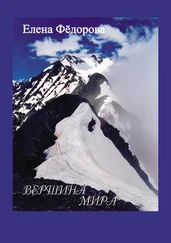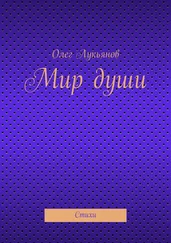Политологи и ученые называют это по-разному: «мультимногосторонность», «мини-сторонность», «хаотичная многосторонность», «соревновательная многосторонность», а также «сетевое» глобальное управление [58]. Лично я предпочитаю блюдо под названием «многосторонность а la carte (по индивидуальному заказу)», а не «комплексные обеды» по твердым ценам, которые нам предлагают в международных организациях [59]. Но как бы ни называлось это явление, его общие очертания очевидны. Подразумеваются не постоянные, а кооперативные органы, специально созданные для того или иного случая; имеющие неформальный и добровольный, а не официальный и юридически обязательный характер; разветвленные, а не монолитные структуры с трансправительственным, а не межправительственным статусом и (зачастую) с многоуровневым управлением вместо четкой управленческой вертикали.
Но в чем причина популярности такого выбора а la carte ? Какие формы он принимает в разных регионах? И, самое главное, хороша или плоха такая форма с изменяемой геометрией?
На первый взгляд у этой гибкой системы много достоинств. Вместо того чтобы обращаться в обросшие патиной времени международные институты, правительства могут создавать новые структуры, «заточенные» под новые геополитические реалии. Такой избирательный и ситуативный подход кажется особенно привлекательным для США, которые благодаря своей мощи имеют неограниченную возможность выбора между альтернативными коалициями и структурами, расширяя при этом арсенал дипломатических средств и собственную свободу действия.
Впрочем, анализируя гипотетические последствия «выбора по индивидуальному заказу», мы не должны закрывать глаза на его потенциальные недостатки. Набирающее скорость появление международных ситуативных структур опасно тем, что может подорвать авторитет официальных организаций, от которых по-прежнему в мире зависит очень многое, тогда как вновь созданные объединения окажутся совершенно неэффективными.
Контекст. Что мешает реформе глобального управления?
В начале пути в администрации Обамы должны были бы осознавать, насколько наше время далеко от эпохи 40-х годов прошлого века и какие могучие ветры препятствуют проведению реформы глобального управления. Между сегодняшним миром и миром «мудрецов» XX века есть четыре основных различия, из-за которых перестройка системы миропорядка представляет собой непомерно трудную задачу.
Во-первых, мир давно уже не чистая доска. В 40-х годах американские архитекторы мирового порядка могли конструировать институты из цельного «куска мрамора», не демонтируя существующих учреждений и не перераспределяя полномочия и привилегии внутри них. Они, цитируя Дина Ачесона, «присутствовали при Сотворении». Администрации Обамы подобная роскошь недоступна: перед ними пейзаж, перенаселенный международными организациями и соответствующими договорами. Сегодня США участвуют более чем в шестистах многосторонних договорах (не говоря уже о тысячах двусторонних).
Государства, задействованные в глобальных институтах управления, болезненно реагируют на каждый намек об изменении мандата, состава членов, системы управления и финансирования договорных органов. Взять хотя бы Совет Безопасности ООН, где жестко отстаивают свои позиции Россия и Китай, не желающие допустить никакого увеличения числа его постоянных членов. Или Международное энергетическое агентство (МЭА), состав которого ограничен странами – членами ОЭСР, а распределение голосов отражает уровни потребления нефти в середине 70-х годов прошлого века. Совершенствование существующих органов в системе ООН оказалось задачей еще более масштабной, чем в свое время их создание, что побуждает многие государства к поиску обходных вариантов.
Во-вторых, отсутствует форс-мажор, характеризовавший ситуацию в середине 40-х годов. Когда нет крупных провалов в политике, учреждения развиваются в лучшем случае «поступательно». В известном смысле поколению Ачесона было проще, так как оно трудилось на поле, опустошенном экономическим кризисом и самой разрушительной войной в истории человечества. Наше поколение избавлено от таких катастроф, но само по себе отсутствие кризисов усиливает ведомственную инерцию. Исключением, только подтверждающим правило, является «великая рецессия» 2007–2008 годов, когда страх перед схлопыванием экономики дал мировым лидерам импульс к реформированию системы глобального экономического управления. Как следствие, «большая двадцатка» (G20) была возведена в ранг ведущей организации, создан Совет по финансовой стабильности и принято Базельское соглашение III о требованиях в отношении движения капитала для крупных банков.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу