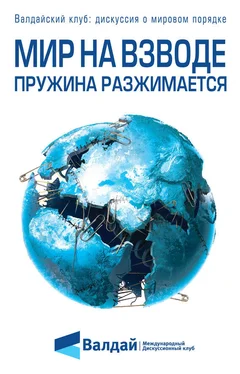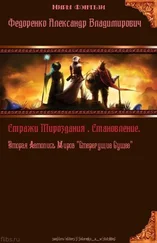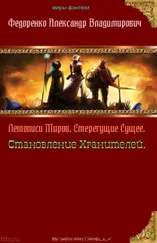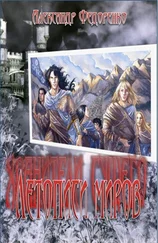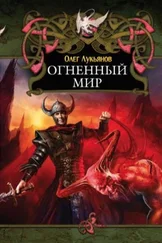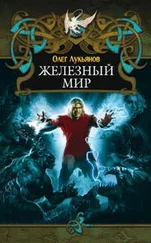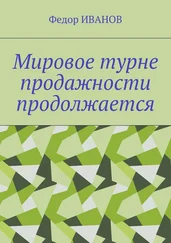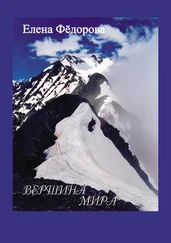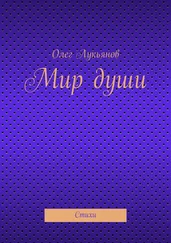4. В наше время нормативная политическая теория справедливой войны наследует многое из средневековой и естественно-законной традиции, но в более светской форме [189]. Не подлежит сомнению, что классическая доктрина справедливой войны носит преимущественно моральный и религиозный характер, тогда как современная и сегодняшняя доктрина является типично легалистской [190]. В контексте классической доктрины справедливая война означает нечто похожее на войну, вписывающуюся в естественный или божественный порядок вещей. В контексте современной сегодняшней доктрины справедливая война – это в большей или меньшей степени синоним войны, поддающейся оправданию, то есть войны, соответствующей данному этическому, политическому и правовому порядку.
Следует проводить различие между современной доктриной справедливой войны и сегодняшней доктриной справедливой войны. Это различие имеет отношение к пределам так называемого политического реализма [191]. Типический реализм современной доктрины международных отношений состоит в отождествлении государства и народа и признании за ними суверенитета. В современной доктрине любое выражение воли народа возможно не иначе как на государственном уровне. В результате идея осуществления международного гуманитарного правосудия поддается распространению лишь на утопическом и субъективном уровне, что совсем не одно и то же, что уровень межгосударственного правосудия [192]. Напротив, в сегодняшней теории политический реализм критикуется под углом зрения нормативного либерального подхода, вдохновленного различными этическими теориями, включая космополитизм и теорию реалистической утопии (Роулз).
5. В легалистской парадигме справедливая война совпадает с оборонительной войной. Концепция справедливой войны как войны оборонительной принадлежит, в частности, католической доктрине XX века [193], хотя и выходит далеко за ее рамки, будучи составной частью не только религиозных и теологических теорий, но также теории права, морально-политической философии и Устава [194].
В контексте сегодняшнего варианта легалистской парадигмы догмат национального суверенитета, вытекающий из ее современного варианта, подвергается отрицанию во имя общих интересов мира и справедливости [195]. При подобных событиях так называемое право на вмешательство является ответом на нарушение международного порядка государствами или группами лиц. Такое вмешательство обосновывается необходимостью обороны, но необязательно в рамках двухвалентной модели, т. е. простейшей ситуации, когда одно государство нападает на другое и последнее себя защищает – и необязательно в пределах полного соблюдения суверенитета, как того потребовал бы современный вариант.
Классическая двухвалентная ситуация (нападающее государство против обороняющегося) способно претерпеть ряд изменений. В борьбе с терроризмом, например, государство может совершить нападение на группу вооруженных лиц, не являющуюся государством. Приняв решение о начале превентивной войны, государство с полным правом намеревается напасть на другое государство, хотя и не подвергалось нападению само, на том основании, что противоположная сторона готовится к наступлению. Наконец, государство или группа лиц могут нарушать основополагающие права граждан или групп населения, и это способно послужить причиной санкционированного вмешательства. Все эти ситуации характеризуются как «косвенные» по отношению к простому двухвалентному случаю, когда одно государство нападает на другое, а то себя защищает.
Случай гуманитарной интервенции предполагает наличие косвенной ситуации [196]. Можно определить эту разновидность интервенции как ряд (в основном экономических, правовых и юридических) санкций, включающих и возможность вооруженного конфликта, которые предпринимаются одним государством или группой государств против других всякий раз, когда последние считаются неспособными соблюдать известные международные обязательства по обеспечению мира и безопасности. Этот тип интервенции нарушает суверенитет подвергшихся нападению субъектов, но те, кто ее совершает, приводят веские основания, которые, по их мнению, перевешивают необходимость соблюдения права на самоопределение государств.
В число таких оснований входят серьезные и систематические нарушения основополагающих прав человека, которые интервенция призвана устранить. В случае серьезных и систематических нарушений прав человека, концепцию обороны, лежащую в основании идеи справедливой войны, следует толковать расширенно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу