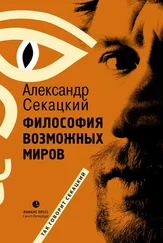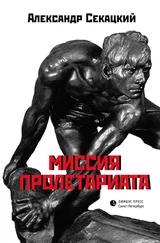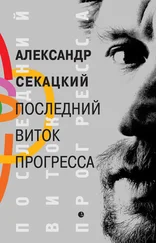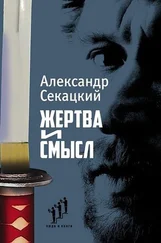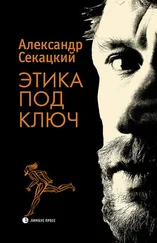Если «старомодное» обращение с вещами просто маргинально, то пристрастие к разговорам находится в конфликтном отношении со скоростями передачи наномыслей и наносмыслов – тут уже налицо серьезное прегрешение перед богом скорости, перед инстанцией Instant God. Грешники были бы и вовсе обречены, если бы не их способность извлекать вещи из прогрессирующего развеществления и не особая форма причастности к искусству. Любовь к отклоняющимся разговорам, медленному чтению, цель которого не пополнение эрудиции и не затыкание дыры времени, а, напротив, удержание времени в его самобытной длительности, вкус к оттенкам и полутонам, вообще свойственный неспешности как модусу проживания, – и это тоже революционные качества сопротивляющейся экзистенции, свидетельствующие, между прочим, и о том, что никогда еще внутренняя революционность не была так далека от внешнего революционного антуража. В этой естественной протестной установке нет ничего, кроме универсальной аллергической реакции на перламутровый оттенок гламура, где бы он ни проступал.
Таким образом, неспешность сегодня одновременно и революционна, и аристократична – неслыханное прежде сочетание. Аристократична отчасти в силу малочисленности своих адептов, а революционна, поскольку направлена против пустых скоростей.
5
Возникает законный вопрос: что же произошло в тот момент (и продолжает происходить), когда искусство обогнало само себя? Говоря кратко, произошло отслоение – на высоких скоростях отделились уже упоминавшиеся креативные практики, которые и унаследовали – или, если угодно, узурпировали – имя искусства. Произведения (шедевры) вроде бы никуда не делись, они тоже искусство, но как бы искусство прошлое, искусство хранимое. Его согласно молчаливому вердикту арт-критики покинул творческий дух, и те, кто по разным причинам занимается оставшимися произведениями, не художники. Это, к примеру, музейные работники, коллекционеры, историки искусства, просто заинтересованные зрители, хотя последних унесенные скоростью художники тянут за собой туда, где искусство творимое не конденсируется в устойчивые формы, где не порождаются тяжелые элементарные частицы, способные долго и медленно взаимодействовать с восприятием, – там возникают лишь волновые эффекты хэппенингов и спецэффектов в самом широком смысле этого слова.
В действительности именно instant-искусство, несмотря на наличие в нем авторов, на то, что именно сюда переместился полюс авторствования, должно доказывать и оправдывать законность своего имени: на каких основаниях оно владеет «брендом» искусства, могут ли артмейкеры с полной уверенностью носить имя художника? Последний вопрос содержит в себе тот же резон, что и вопрос, могут ли люди, пересевшие с лошадей на мотоциклы, по-прежнему именоваться всадниками. Никто ведь не сомневается, что они могут быстрее проехать из пункта А в пункт В (правда, при условии заранее проложенных хороших дорог), что они могут обогнать всадников на этом пути, но будут ли они сами всадниками?
Обратимся к поворотным пунктам пути художника и вспомним, как все это начиналось в европейской традиции. Сразу же наше внимание привлечет сейсмический толчок, произошедший в Северной Италии в эпоху Возрождения и породивший современное искусство. Вот перед нами условный Медичи, заказчик и потребитель (зритель) в одном лице, а перед ним в свою очередь стоит условный Леонардо, готовый применить свое умение, результатом чего будут разного рода объективации: картины, фрески, фуги. Написанные тексты, сочиненные стихотворения. Медичи должен заплатить золотом или как-то иначе отблагодарить художника, поскольку тот совершает поэзис в его честь, поэзис, который увенчается произведением. В акте инициации они выступают как партнеры, ведь великих художников не так много и все они наперечет, с щедрыми меценатами. Так возникают разность потенциалов и движущая сила, основная для искусства Нового времени. Далее на протяжении нескольких столетий полярность усиливается, ценность продуктов высокого поэзиса возрастает, одновременно возрастает престиж задачи (миссии) «творить искусство» по сравнению с задачей «собирать искусство». Двадцатый век стал апофеозом ощущения сверхзадачи художника: от «Русских сезонов» Дягилева до советских шестидесятников, рассматривавших себя как «творян» (А. Вознесенский). В самосознании общества или его значительной части творить искусство значило почти то же, что быть богом, возможно, правда, богом в изгнании, богом на кресте. Но в этом же столетии случился и надлом, обусловленный как раз возрастанием скорости поэзиса. В результате раскола четко отделились воспроизводимые объективации (копии, тиражи) от оригиналов и подлинников [6], далее по мере ускорения поэзиса происходили все новые и новые расслоения, пока искусство не обогнало само себя…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу