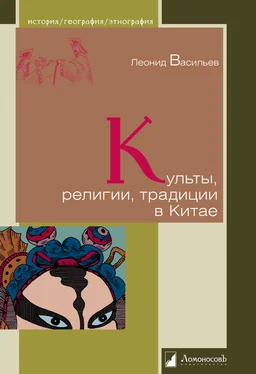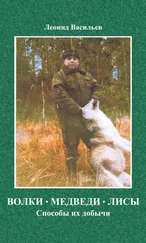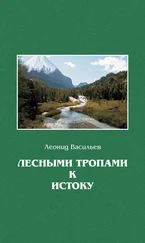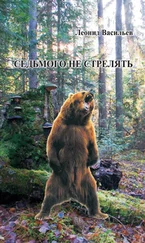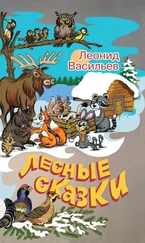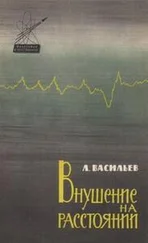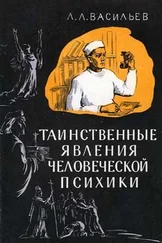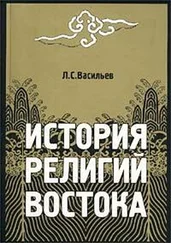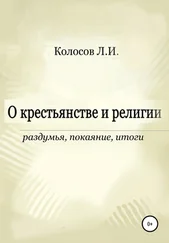Таким образом, в Древнем Китае обителью мертвых считались и земля и небо. Исторически более ранней из них была, безусловно, земля. Специально изучавший этот вопрос Э. Эркес подчеркивал, что именно земля вначале была «богиней смерти», а душа гуй считалась эквивалентом термина гуй (возвращаться) со смыслом «умереть», «возвратиться в землю» [374, 192 – 194]. Земле, как «богине смерти», приносились и человеческие жертвы. Жертвами ей считались, например, павшие в бою. На алтаре земли, шэ , приносили в жертву и осужденных на казнь, как об этом сказано в главе «Гань ши» в «Шуцзин» [1036, т. III, 238; 525, 19 – 20].
Представление о небе как о местопребывании душ мертвых предков возникло видимо, лишь в эпоху Инь и было тесно связано с иньским культом предков. Иньцы, а затем и чжоусцы отправление душ своих предков по их смерти на небо представляли в виде полета птицы. Более того, как полагает Ф. Уотербери, внимательно изучавшая этот вопрос, саму душу хунь ( шэнь ) иньцы и чжоусцы нередко изображали в виде птицы [760, 84]. Это означало, что не только силы природы и легендарные предки-тотемы, но и души ближайших умерших предков, то есть в конечном счете весь мир духов, воспринимались древними китайцами преимущественно в облике различных животных.
Культ плодородия и размножения
Загадка плодородия, таинство рождения занимали умы людей еще с эпохи первобытности. Стимуляция плодородия и размножения как самого человека, так и средств его существования (животных и растений) была едва ли не важнейшим из сознательных действий древнейшего человека. Естественно, что при этом древние искали помощи у своих могущественных покровителей. У одних народов это были великие боги, у других – многочисленные духи, у третьих – могущественные обожествленные предки.
Раскопки свидетельствуют о том, что неолитические земледельцы Китая, так же как и другие племена евразийских культур расписной керамики, знали и высоко ценили раковины каури. По форме напоминавшие вульву, эти раковины морского происхождения были широко распространены в Древнем мире и везде были прежде всего символом женской плодовитости (а уж во вторую очередь также и дорогим амулетом или даже мерилом ценности, наиболее ранним эквивалентом денег). Раковины каури с их специфической формой «врат рождения» рассматривались в качестве жизнеутверждающего элемента и часто воспроизводились в орнаментике [17; 508, 148]. К этому можно добавить, что в орнаменте на китайских неолитических сосудах изображения раковин каури встречаются весьма часто.
Наряду с использованием раковин каури о культе женского начала среди земледельцев-яншаосцев говорят и другие факты. Правда, в древнекитайских поселениях, в отличие от стоянок других сходных культур, не найдены характерные женские керамические статуэтки со стеатопигией. Однако, по мнению ряда авторов, аналогичную роль символа плодовитости женщины-матери и матери-земли в искусстве яншаоских племен играли в обилии встречавшиеся в росписи на сосудах изображения треугольников. Как было отмечено в работах Г. Рид, треугольник во всех обществах древности всегда был символом именно женского начала. Поэтому главным в найденном Андерсоном «символе смерти», зубчатые линии которого наносились красной краской, Рид считала именно «женский» треугольник, символизировавший идею воскрешения и возрождения и связанный также с идеей плодородия земли [673; 674].
Культ женского начала у любого земледельческого народа обычно всегда сосуществовал с аналогичным культом мужского начала. Это и понятно: идея размножения и плодородия могла развиваться лишь как представление о жизненной важности слияния обоих начал. В неолитическом Китае археологами найдены изображения, напоминающие фаллосы. Кроме того, наличие фаллических символов подтреугольной формы дало основание Б. Карлгрену предположить, что Рид не совсем права, связывая все изображения треугольников только с женским началом. Сам Карлгрен в специальной работе убедительно показал, что и в иньском и чжоуском Китае решительно преобладал именно мужской фаллический культ и что все элементы этого культа в графике действительно восходили к знакам подтреугольной формы [513].
Своеобразный спор между Рид и Карлгреном едва ли может быть решен, если не обратить внимание на различие материалов, которыми оперируют обе стороны. Г. Рид имела дело с материалами неолитической эпохи, Б. Карлгрен – с данными эпох Инь и Чжоу. Видимо, оба правы в своих выводах, но каждый в пределах своей эпохи. Не вдаваясь в подробности, стоит сказать о том, что в неолитических культурах Китая, где, судя по многим имеющимся данным, господствовали матрилинейные формы организации родового коллектива, культ женщины-матери и матери-земли, очевидно, был главным. Поэтому, видимо, женский символ играл центральную роль в искусстве и ритуале, а его атрибутами могли быть и каури и треугольники. С эпохи Инь многое изменилось. Господство патрилинейных форм в иньском обществе не подлежит сомнению, а культ мужских предков уже далеко превзошел все остальные культы. Естественно, графические символы той же подтреугольной формы (к тому же начертанные уже не на керамике, а на бронзе, причем самими иньцами, иньскими письменами) могли иметь совершенно другую исходную основу, быть иного происхождения. Вот почему следует полностью согласиться и с Б. Карлгреном в его трактовке треугольных знаков эпохи Инь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу