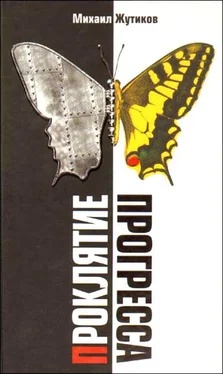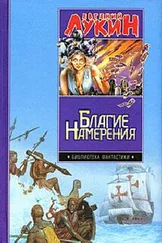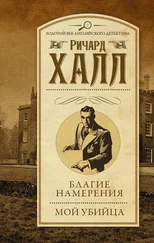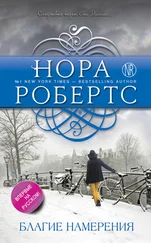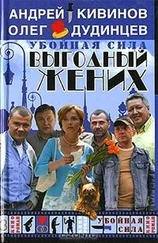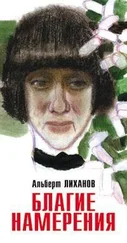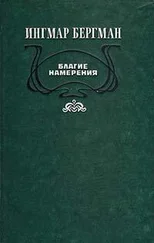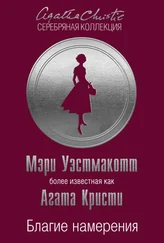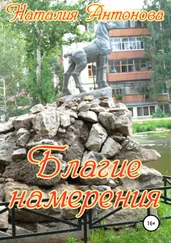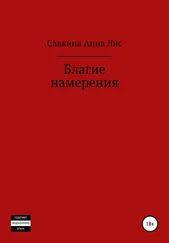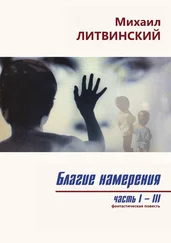Как представляется, Михаил Юрьевич был единственным из сверстников Герцена в России, кто чуточку превосходил последнего, если можно так выразиться, качеством интеллекта (мы объяснимся), чье одно присутствие… ну, хоть вот так: кто своей иронией, легчайшим – не налетом, а намеком, одной возможностью! насмешки мог удержать его, а с ним, конечно, сотни и тысячи – не от представлений о «благе народа» (от этого истинного интеллигента, тем паче народа вовсе не видевшего, никому не удержать), но от провозглашения этих представлений в форме патетической и собственно мятежной.
Пафос в писательстве – та же соль в пище: нет его совсем – пресно, но только чуть лишнего – уже пересолено. Вспомним, что Лермонтов ушел от внутренней мятежности к двадцати пяти годам!
Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор…
Обратим внимание на это: «год от году…»
А.И.Герцен от надежд (как выяснилось, нелепых) 1855–1859 годов приходил к разочарованию – колебаниям – мятежности…
Вот (не удержусь!) социальная программа: освобождение крестьян – уничтожение власти чиновничества (чиновничества, заметим, петровского, сиречь европейского, – теперь социалист-западник стоит за уничтожение его власти: прозреваем?!) – гласность… (Ба, да что это? – Это Герцен, 1859 год. Каково читается через полтораста лет?!) Это расцвет сил – и это балансирование в одиночку между склонявшими его, тянувшими, шатавшими в разные стороны: либералы «справа», хваля «обличения», пугались безразличия его к средствам освобождения крестьян, «красные», отчаявшись утянуть в свой лагерь, просто «крыли» Александра Ивановича. Н.А.Добролюбов с молодой прямолинейностью разделывался сразу со всей русской литературой: она «не имеет никакого права приписывать себе инициативы ни в одном из современных общественных вопросов», – помыслим: никогда М.Ю.Лермонтов, будь он жив, во-первых, не заслужил бы такого; посовестились бы при нем такое сказать, не посмели бы. И во-вторых, никогда не своротить его было однолинейным таким умам: мог бы и зло повеселиться. (Печорина – да и Онегина! – Добролюбов относил к «обломовцам», бегущим «от настоящего дела»… – от такого впору и нам скривиться).
Отсутствие какого-то… не юмора (какой уж тут); страшноватое отсутствие чего-то сокровенно-важного – и какой бескрылый серьез! Н.Г.Чернышевский 1857–1862 годов проповедует «крестьянскую социалистическую революцию» (кажется, так? не верится? но ведь это теперь выглядит комически, теперь!) Добролюбов призывает эмигранта-издателя: «Перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит в набат! К топору зовите Русь» (1860 год). Оба, в сущности, подбивают на разрыв с отцами – делают то, что делают всегда разрушители . Ждут крестьянскую революцию «не позднее 1863 года…» Прости нас, Господи.
Вероятно, все подобное мыслимо даже в точности такое и при нем – т. е. писалось бы и где-нибудь печаталось; и все же… так ли в точности всерьез? (Было бы ему только 46 лет в 1860-м). Стали бы при нем – армейском офицере, командовавшем когда-то сотней головорезов, представленном к Станиславу 3-й степени и золотой сабле «за храбрость» (государь лично из представления вычеркнул) – эти поповичи, смутно знающие, где у штыка перёд, выкликать такое «дюже воинственное»? (Мстя собственной юности за веру??) Да стал бы и Герцен глумиться над «Станиславом на шею»?
С другой стороны, все прямые вмешательства К.Д.Кавелина, И.С.Тургенева и других либералов лишены убийственности его иронии, горячи, длинны, опять серьезны; не так бы он сказал!.. У них же сказать по-иному и права не было.
С третьей стороны, остервенение либеральной (еще недавно) власти делается все более понятным. Являются прокламации, в которых читаем, например, такое: «Мы не испугаемся, если увидим, что… приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 90 годах… мы издадим один крик «в топоры»… и тогда бей императорскую партию не жалея»… и т. д. (Зайчневский, «Молодая Россия». Отдает провокатором? – будущим Азефом?..)
На таком базисе «слева» и на непросветно-шкурной традиции родимого дворянства «справа», в интеллектуальном сиротстве, в эмиграции – мудрено ли, что «разбуженный» декабристами Александр Иванович должен был опираться на одного себя? И должен был, с Огаревым, – качнуться к «Земле и воле», к отчаянию – отчаянию, которое автор «Думы» и «Героя» изживал, одолевал к своим 26 годам?! Одолевал, и скоро бы одолел!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу