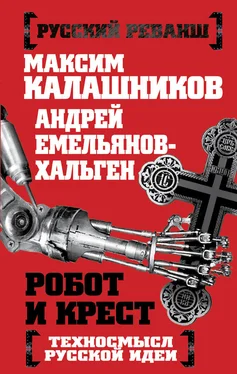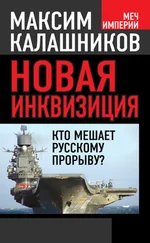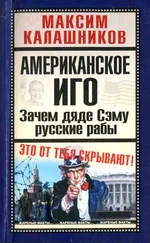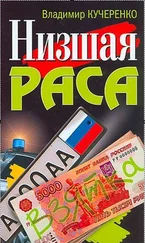По словам исполнительного директора и сооснователя «Лабораторий прорыва» («ЛП») Линди Фишберн, «ЛП» сделают то, что не может творить венчурный капитал или большие структуры поддержки науки и техники. Ибо венчуреры ищут то, что можно продвинуть на рынки в течение пяти-семи лет, а «большие фонды» вроде Национальных институтов здравоохранения с большой нетерпимостью относятся к радикально-прорывным идеям. Потому «ЛП» должны искать идеи, опережающие как свое время, так и готовность традиционных инвесторов финансировать такие прорывные разработки. (“Venture capital firms look for research that can be brought to market within five to seven years, and major funders like the National Institutes of Health have a low tolerance for radical ideas,” said Breakout Labs founder and executive director Lindy Fishburne. “At Breakout Labs, we’re looking for ideas that are too ahead of their time for traditional funding sources, but represent the first step toward something that, if successful, would be groundbreaking.”)
44-летний миллиардер, столь разительно отличающийся от косных российских магнатов-сырьевиков, Тиль на саммите буквально излучал энергию. (Он уже вложил миллионы долларов в исследования по продлению жизни и замедлению процессов старения). Он был настоящей динамо-машиной, мечущей молнии. Иногда казалось, что на трибуне стоит не зрелый муж, а пылкий юноша. Но, увы, конкретики его выступлению все же не хватало. Как преодолеть дефицит технологий в принципе, институционально — а не на уровне деятельности отдельных «тилей»? Что для этого нужно сделать, по каким направлениям и что начинать? Где — большие интегрирующие проекты? Плавучие города — хорошо, но они охватывают только часть задач. А что может объединить и дрейфующие города, и механизмы по отключению старения? К сожалению, ответа не прозвучало.
Сам Тиль все время говорит о полной свободе от государственного регулирования. Но это наивно. Только государству по силам потянуть большие — на десятилетия вперед — интегральные проекты развития.
Да и на приеме, что Тиль потом давал, преобладали молодые «тусовщики» или уже уставшие тридцатилетние трансгуманисты, рассуждавшие на общие темы. Собственно на тему конкретных прорывных проектов там не говорили. Вот почему можно с уверенностью сказать: чем скорее трансгуманизм будет представлен в США с их огромными финансовыми возможностями и такими венчурерами, как Тиль — тем лучше.
Инь-то есть, вот Яня — дефицит!
Некоторую нехватку конкретики на саммите отчасти восполнил Джеймс Макларкин с докладом «Будущее роботехники — в роях. Почему тысяча роботов лучше, чем один?» (James McLurkin: “The Future of Robotics is Swarms: Why a Thousand Robots are Better Than One”) Сам Макларкин — профессор Института Райса как раз по части «распределенной роботики» (http://people.csail.mit.edu/jamesm/). Профессор вывел на сцену рой маленьких кубиков-роботов, которые совершали маневры и эволюции. Это, конечно, можно рассматривать как далекий аналог будущих наноботов в организме человека. Но — именно далекий. Ведь ничего нового в этом уже нет. И у нас в стране уже имеются беспилотные самолеты, способные действовать стаями — обмениваясь информацией друг с другом и координируя свои действия.
И очень скоро стало понятно, что американцы — люди конкретные. Поскольку в США нет мегапроектов в духе трансгуманизма (а государство не создает ничего подобного по масштабу, что могло бы сравниться с космическим или ядерными проектами прошлого), то американских адептам сингулярности приходится поневоле сбиваться на частности и «мелкотемье». Иначе финансирования не найдешь. В общем, и сам Институт сингулярности Курцвейля также вынужден двигаться небольшими шажками. Инвесторам нужна конкретика и сроки окупаемости! Такова природа нынешнего финансового капитализма. Он не любит слишком долгих вложений и «загоризонтности». Хотя у того же Курцвейля — и мировая слава, и десятки патентов, и награда, врученная самим президентом США.
Да, в США у бизнесменов есть интуитивные предчувствия о том, что скоро все изменится, что грядет смена технологических укладов. Многие понимают, что жить по-прежнему уже невозможно, что технологий будущего действительно не хватает. Что пока нет ничего подобного технологическому всплеску 90-х — когда дали себя знать плоды огромных государственных и корпоративных вложений в программы передовых вооружений при Рейгане (1980–1988 гг.). Понимают — но пока ничего поделать не могут.
В Америке нужно уметь себя продать. А это — неизбежный крен в «ближнюю перспективу», нехватка сверхцелей. Конечно, умение организовать конкретные проекты — бесспорно сильная американская черта. Но этому «Инь» не хватает русского «Яня» — стремления «на Марс», образно говоря.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу