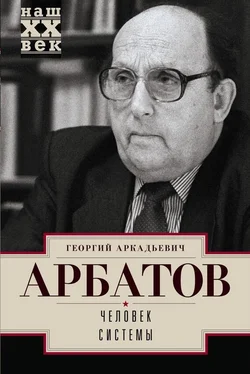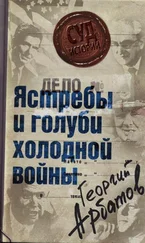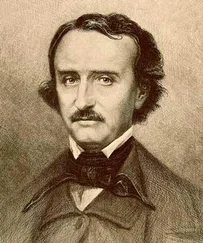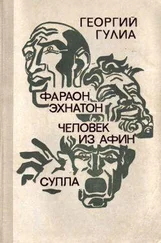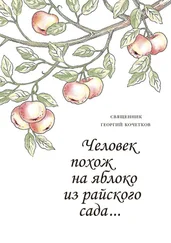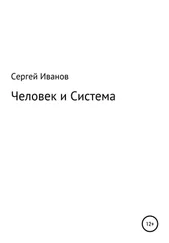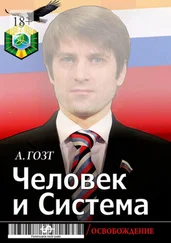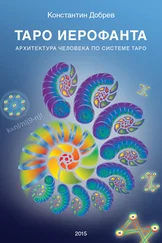«Конечно же, – продолжал я, – при случае о ней – после рабочего класса и крестьянства – говорят что-то хорошее. Но говорят с известным снисхождением, похлопыванием по плечу, даже с оговорками. А в разговорах среди чиновников, «в своем кругу», «интеллигент» остается почти бранным словом». И далее шел снова отчеркнутый текст: «Не знаю, нужно ли и важно ли сейчас что-то делать с этой, так сказать, доктринальной стороной вопроса. Хотя можно было бы, не отказываясь от признания особой роли рабочего класса, все же напирать на полноправность, на одинаково неотъемлемую роль и функцию обоих классов и «прослойки», на то, что различия носят скорее исторический и философский, а сегодня – профессиональный характер, но не затрагивают политического и социального положения в обществе…» Отмечая, что вопрос может казаться не таким уж важным, удаленным от реальности, я писал: «Не думаю, например, что рабочий и крестьянин получают большое удовлетворение оттого, что их ставят в перечислениях впереди, послышнее о них говорят, подчеркивают, что их много в Советах…» И следующая фраза была снова отчеркнута Андроповым: «Противостояние, как мне кажется, идет сегодня по другому направлению – не рабочие и крестьяне, а часть чиновничества и бюрократии (особенно руководящая интеллигенцией) противопоставляет себя интеллигенции, говорит о ней снисходительно, а подчас даже и недоброжелательно. С ними рядом и те представители самой интеллигенции, которые свою профессиональную, а подчас и интеллектуальную слабость норовят компенсировать демагогией насчет близости к народу (особенно к деревне). Наверное, махаевщина не грозит рабочим и крестьянам, а стала скорее реальной болезнью обюрократившихся элементов аппарата».
Следующее отчеркнутое место относилось к «нововведению», автором которого был, насколько я знаю, Е.К. Лигачев, ставший при Андропове секретарем ЦК КПСС и ведавший организационно-партийной и кадровой работой: «Недавно было принято решение не принимать на работу в аппарат ЦК людей, не бывших ранее на освобожденной партийной работе. Это автоматически исключает из работы в аппарате ЦК специалистов-международников, ученых, журналистов, деятелей культуры и искусства, в конце концов, просто заслуживающих доверия хозяйственных руководителей, врачей и учителей. Утверждается, по сути, аппаратное сектантство. Учитывая, что из этого постановления сделают свои выводы республики и обкомы, партийный аппарат скоро будет состоять лишь из тех, кто с юных лет избрал чиновничью стезю и вознамерился «руководить», стать начальством, кто со студенчества или первых трудовых лет пошел в аппарат (сначала, как правило, РК комсомола) и рос в нем, двигаясь по ступенькам. Превращать работу в партийном аппарате в своего рода дворянство, как мне кажется, крайне опасно… Это более широкий вопрос, чем интеллигенция, но имеет отношение и к ней – думаю, в шестидесятых годах ничего плохого не произошло оттого, что наряду с повзрослевшими комсомольцами в международные и некоторые другие отделы пришли научные работники, журналисты, дипломаты. Может быть, стоило бы попробовать их, равно как отличившихся на работе, обладающих партийным складом мышления инженеров, экономистов, врачей и в других амплуа – скажем, секретаря или заведующего отделом обкома, на ответственной хозяйственной работе и т. д.?»
Судя по отчеркнутым на полях местам, заинтересовал Андропова и ряд суждений насчет «отношений между творческой интеллигенцией и руководством».
Я начал с утвердившихся, так сказать, традиционных принципов и методов руководства культурой и искусством. Наследие здесь у нас, наверное, нелегкое, и в нем мы еще как следует не разобрались. Я имею в виду и теорию, начиная с таких важных принципов, как партийность литературы, социалистический реализм, свобода творчества и т. д. Спору нет, написано о них и других аналогичных вопросах немало, но написанное благословляло очень разную реальную политику, в том числе глубоко неверную, впоследствии осужденную… Еще важнее два более практических момента. Один – уточнение представлений о том, что в культуре и искусстве дальше политического и идейного руководства лучше не идти. А сами критерии политического контроля тоже, видимо, должны устанавливаться без перегибов.
И второй – методы руководства. Здесь должны использоваться методы убеждения. И применяться они должны уважительно (следовала тоже отчеркнутая сноска следующего содержания: «Один из негативных примеров – опубликованная летом в журнале «Смена» разухабистая статья историка Н.Н. Яковлева о личной жизни академика Сахарова и даже интимной жизни Боннэр»), квалифицированно, со знанием дела. Примыкает к этому вопрос о Главлите. Он не должен участвовать в партийном руководстве культурой и искусством. Его дело – не допускать выхода в свет контрреволюции, порнографии и выдачи государственных тайн. И все.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу