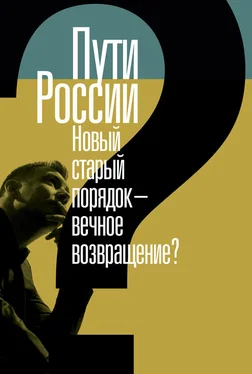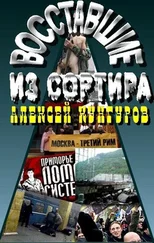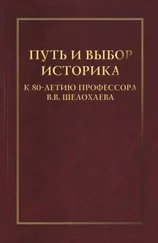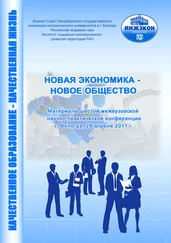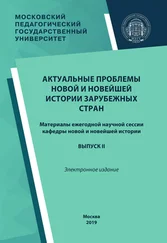Вместе с тем совсем не редки случаи, когда именно наличие спонтанного порядка является условием выживания порядка навязанного. Они не столько противоречат, сколько дополняют друг друга. При этом рассказанный порядок оказывается не только способом легитимизации порядка навязанного, сколько смысловым пространством, позволяющим этим порядкам сосуществовать. Отсутствие «рассказа», невидимость дают спонтанному порядку возможность «жить», не вступая в конфликт с навязанным, но дополняя его, существуя в «прорехах» между определениями.
Подобный казус, когда навязанный порядок подкрепляется порядком рассказанным, но способен продолжить существование только при наличии в его порах порядка спонтанного, мы и попытаемся представить в статье.
Пожалуй, трудно найти более показательный случай, когда на гигантской территории навязанный порядок превратился бы в рассказанный, подкреплялся бы им, чем казус советского Дальнего Востока. Именно здесь советская машина переконструирования пространства продемонстрировала свою силу и основательность.
Причины запуска этой машины достаточно очевидны. Процветающая Приамурская окраина [52], основанная на индивидуальном предпринимательстве, открытости и фермерском сельском хозяйстве, с трудом вписывалась в советские рамки. Не случайно жаловался первый руководитель Дальбюро и позже Дальневосточного крайкома ВКП(б) Н.А. Кубяк на «кулацкую» природу местных жителей [53]. Сетовал, что настоящей бедноты здесь нет, потому и опереться не на кого. В самом деле, социально-экономическая ситуация на Приамурской окраине не предполагала значительного числа бедняков.
Благодаря усилиям немецких, американских и отечественных фирм «железный конь» еще в 90-х гг. XIX в. пришел на смену крестьянской лошадке, не говоря о более примитивных орудиях. Урожайность южных уездов региона (где, собственно, люди и жили) была выше, чем в целом по стране. Обеспеченность землей определялась исключительно физическими возможностями крестьянской семьи. Насколько хватало сил, столько и засевали («захватное землепользование»).
Развивалась переработка сельскохозяйственной продукции, мукомольная и винокуренная промышленность. Не отставала от нее рыбная ловля, лесная промышленность, добыча полезных ископаемых. Чуть более миллиона жителей Приамурской окраины давали товарной продукции на сумму от 80 до 130 миллионов рублей в год [54]. При этом надо понимать, что более 80 % населения региона на тот момент составляли крестьяне [55], производящие далеко не только товарную продукцию. Еще в недобром 1917-м росли города и обороты торговли, открывались газеты и больницы, гимназии и женские курсы. Принимал абитуриентов Восточный институт – первое высшее учебное заведение в регионе, открытое чаяниями местных благотворителей.
Однако самым удивительным обстоятельством этого процветания было почти полное отсутствие его концептуализации. В виде концепций и идеологий оформлялось не развитие Приамурья или Приморья, входившего в Приамурское генерал-губернаторство, но геополитический образ «желтороссии», китайских и корейских территорий, которые должны быть экономически и транспортно «притянуты» к Транссибу [56].
Приамурское же генерал-губернаторство («внешняя Маньчжурия») существовало в «тени» зарубежной Маньчжурии, которая должна была стать основой для российской геополитики на Востоке [57]. При этом «тень» оказывалась вполне комфортной. Военные, морские и железнодорожные подряды становились формой накопления капитала местной буржуазией, который потом ею же инвестировался в рудники, лесные участки, заводы и склады уже на русской территории [58].
Грандиозное строительство, инициируемое и финансируемое из Петербурга, а также продолжающееся переселение на Дальний Восток создавало устойчивые рынки сбыта для сельскохозяйственной продукции, для лесопилок, силикатных и пищевых предприятий, для горнодобывающего комплекса. Импульс к развитию был столь силен, что даже трагические события Первой мировой войны и революции на хозяйстве региона сказались не особенно сильно.
Выправить эту «ненормальную» ситуацию и помогло уникальное стечение обстоятельств, дополненное небольшими, но важными социоконструирующими действиями. О них и пойдет речь.
Начнем с объективных обстоятельств. Подворовая перепись 1916 г. фиксирует в регионе почти полтора миллиона жителей. По переписи 1926 г. их число осталось прежним, притом что в состав Дальнего Востока вошло Забайкалье [59]. Да и об активной миграции в регион в этот период пишет Н.Г. Кулинич [60]. Иными словами, если присоединение к региону Забайкалья (Читинского и Сретенского округов) и активная миграция не дали роста числа жителей, то, следовательно, прежнего населения стало существенно меньше. Конечно, многие погибли на войне, которая здесь велась и против советов, и против японцев, и против Колчака. Но не только они дали это сокращение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу