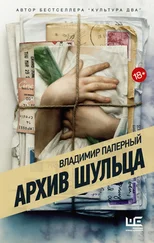Жениться на Ите, девушке из респектабельной и сравнительно состоятельной семьи, было серьезной победой в жизни дедушки Шмилика. Но уже в 1919 году молодая пара, бросив абсолютно все, бежала от погрома в Киеве с двумя новорожденными близнецами Борей и Зямой на руках. Спасенному Зяме суждено было стать моим отцом, а Боре – отцом Ирины Паперной.
Заслуги дедушкиного брата Левика перед большевиками не были забыты, и он довольно скоро оказался в Москве, где стал большим начальником в Совете профсоюзов.
– Левик пришел к Бухарину, – рассказывал дедушка Шмилик, – и сказал, что он написал статью о демографии. Тот спросил: источниками на каких языках вы пользовались? На немецком. Тогда, говорит Бухарин, я даже читать не буду, немцы ничего в этом не понимают, все главные источники по-английски. Левик, понятно, расстроился, но решил, что он так легко не сдастся. Засел за учебники и за полгода так выучил английский язык, что его послали в командировку в Америку.
Я хорошо помню две деревянные теннисные ракетки, которые Левик привез племянникам Боре и Зяме. На них было красивое клеймо: Antelope Brand. Это все, что осталось от Левика. В 1937 году он был назначен наркомом земледелия Украины и почти сразу же расстрелян как американской шпион. К этому времени родители бабушки Иты с двумя из семерых детей уже уехали в Палестину, а семья Паперных жила в Москве. Возможно, именно поэтому никто из родственников не пострадал – Киев и Москва, видимо, шли по разным ведомствам. Боре и Зяме сказали, что дядя Левик погиб в альпинистском походе, сорвавшись в пропасть. Зная его бесшабашный характер, поверить в это было легко.
Дедушка Шмилик был сентиментален. Он часто пересказывал нам, детям, истории из Торы, чаще всего про Иосифа Прекрасного. Он делал большие паузы – теперь я понимаю, что при этом он мысленно переводил с иврита. Каждый раз доходя места, где Иосиф говорит братьям «неужели вы не узнаете меня, я брат ваш, Иосиф», дедушка начинал плакать. Мы все знали, что в этом месте надо плакать, и терпеливо ждали. Дедушка беззвучно плакал несколько минут, потом вытирал слезы и продолжал рассказ.
Уверен, что в этой истории ему слышался голос любимого брата: неужели ты забыл меня, я брат твой, Левик.
Много лет спустя, когда дедушки уже не было, я попытался вспомнить историю Иосифа и рассказать ее своему сыну. Когда дошел да слов «неужели вы не узнаете меня», у меня из глаз вдруг градом полились слезы.
Павловский условный рефлекс.
В 1937-м мои родители Лера и Зяма познакомились в ИФЛИ. Институт истории, философии и литературы, созданный в 1935-м, был одним из элементов возрождения имперской культуры. Именно тогда вновь были введены воинские звания царской армии, осуждено использование марксистских схем в преподавании и возвращены колонны в архитектуру. Известные дореволюционные профессора – Г.О. Винокур, Д.Н. Ушаков и другие – были извлечены из коммуналок, и им было позволено преподавать практически как до революции.
«Твои родители, – рассказывали мне потом их соученики, – самая красивая девушка курса и самый блестящий студент, все пять лет ИФЛИ проходили, держась за ручки». В 1939-м они уже обсуждали будущий брак, а пока, полные презрения к буржуазной морали, решили вместе поехать отдыхать на Черное море. На платформе Курского вокзала впервые встретились провожающие их родители. К шоку от того, что «дитя собирается вступить в брак с чужим», добавлялось смущение от свободы нравов детей, но кто после кровавой эпохи войн и революций обращает внимание на такие мелочи. Официальное знакомство состоялось, детям дали на дорогу денег, и поезд ушел.
Первое время в Курпатах было абсолютно счастливым, но потом произошло непредвиденное. У перегревшегося на солнце Зямы произошел такой нервный срыв, что Лера решилась послать телеграмму его родителям. К ним немедленно выехала бабушка Ита, они с Лерой вдвоем отвезли Зяму в Москву и устроили в больницу. Зяма поправлялся, но Лера была в панике: готова ли она связать жизнь с не очень здоровым человеком? Решила поговорить со своей мамой.
Бабушка Сима, дочь кроткой и добросовестной карелки, внимательно посмотрела на нее и тихо сказала:
– Каленька, ну как же можно бросить больного человека!
В эти годы Калерия была убежденной комсомолкой и атеисткой, христианское милосердие было ей не свойственно, но эта фраза на нее подействовала. Вопрос был решен. Бабушка Сима и дедушка Коля были верующими, поэтому для них вопроса вообще не было – христиане не бросают больного человека.
Читать дальше
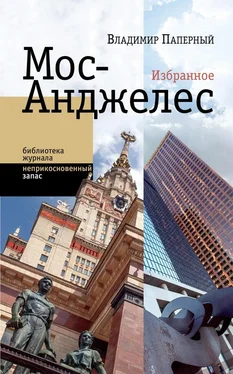



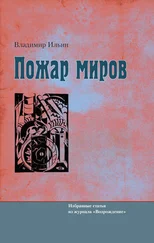
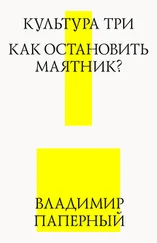
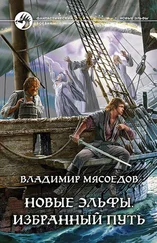
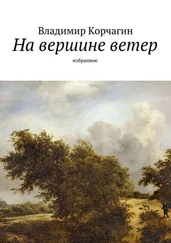
![Владимир Паперный - Архив Шульца [litres]](/books/433162/vladimir-papernyj-arhiv-shulca-litres-thumb.webp)