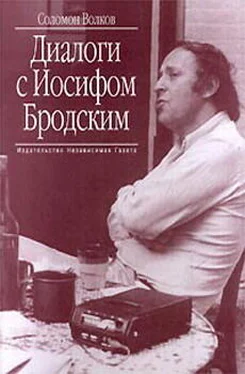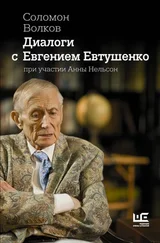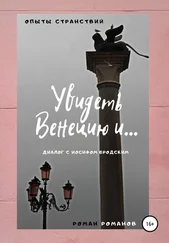ИБ:Вы знаете, Соломон, эту реальность я тоже уже себе не представляю…
СВ:А с другой стороны, эти стихи не стыдно произносить вслух, не стыдно декламировать даже самым строгим ценителям поэзии. В то время как в том же Блоке или, скажем, в Есенине, который традиционно был чрезвычайно популярен в России, наличествует сильный элемент китча. Иногда начнешь читать их стихи вслух и думаешь: «О Боже!»
ИБ:Относительно Ахматовой интересно вот что: насколько ее творчество оказалось живучим или, вернее, выживающим и применимым ко времени именно потому, что она — поэт малых форм. То есть можно сказать, что суть изящной словесности — это и есть короткое стихотворение. Все мы знаем, что у современного человека то, что называется attention span, чрезвычайно узок.
СВ:Как говорят американцы — мушиный…
ИБ:Да, как у мухи. И поэзия, до известной степени, как раз и рассчитывает на это. То есть не то что рассчитывает на это — поэзия точно знает, что это так, да?
СВ:Но с другой стороны, существует же эпическая поэзия. И даже если говорить только о современных фигурах — скажем, вы и Дерек Уолкот — разве вы не растягиваете совершенно сознательно этот читательский attention span?
ИБ:Ну, может быть, мы в конечном счете совершаем крупную ошибку, да? Хотя я, конечно, так не думаю. Но в общем, то, что выживает — это действительно искусство малых форм, искусство конденсации. Тем более что… Погодите, Соломон, я возьму сигарету. Одну секундочку! Потому что бессмысленно этот разговор продолжать без сигареты… Так вот, я все это говорю еще и потому, что за последние несколько дней просмотрел двадцать или тридцать выпусков газеты, которая называется «Гуманитарный фонд». Издается она в Москве. И вам, Соломон, было бы полезно свести с этим знакомство, потому что там довольно много замечательного. Их авторы — это такие полупанки, молодые люди от двадцати пяти до тридцати пяти лет. Это — теперешний авангард. Когда читаешь эту газету, то видишь, чем сейчас увлечены молодые люди в литературе, живописи или музыке. Ну про музыку тут говорить, правда, бессмысленно, потому что это рок. Но что касается поэзии, то картина здесь весьма примечательная, потому что ни про Ахматову, ни про Пастернака, ни про Блока нет вообще никакой речи. Причем стихи приходят к ним со всей страны, так что это — представительный срез.
СВ:Чьи же стихи им служат примером — Бориса Гребенщикова, что ли?
ИБ:Да, Гребенщикова. Но и Гребенщиков уже сходит, с их точки зрения, со сцены. В этой газете заняты исключительно тем, что им близко или, в худшем случае, современно. И они печатают много вздорного. Но иногда прочитываешь совершенно замечательные стишки. Все довольно интересно именно в том аспекте, о котором мы говорили: что в культуре выживает, а что — умирает.
СВ:Бьюсь об заклад, что поэзия Ахматовой переживет и этих панков, и их творчество. В частности и потому, что она говорила о любви современным языком, как городская женщина, со всеми ее неврозами. Кстати, обсуждали ли вы с Ахматовой Фрейда?
ИБ:Да, несколько раз. И я даже помню цитату: «Фрейд — враг творчества номер один». Ахматова говорила так: «Конечно же творчество — это сублимация. Но я надеюсь, Иосиф, что вы понимаете — не только сублимация. Ибо существует еще влияние и вторжение сил если не серафических, то, по крайней мере, чисто лингвистических». Я с Ахматовой в этом пункте согласен. И я даже не знаю, что вообще является сублимацией чего: творчество ли является сублимацией сексуального начала или наоборот — сексуальная деятельность является сублимацией творческого, созидательного элемента в человеке.
СВ:Будучи врагом фрейдизма, Ахматова, тем не менее, вписывала себя в модернистскую культуру. Она внимательно читала и Джойса, и Кафку, и Валери, и Пруста, и Элиота. Эти фигуры были для нее близкими.
ИБ:Безусловно! С моей точки зрения Ахматова — настоящий модернист. Под модернизмом ее я подразумеваю ощущение, ранее в русской литературе не зарегистрированное, уникальное. Это было трагическое мироощущение, но куда более сдержанное и сфокусированное, чем у большинства русских модернистов. То есть когда происходит самый большой раздрай, а ты все-таки соблюдаешь определенные эстетические требования, накладывающие на тебя некоторые узы. Когда поэт не может позволить себе кричать, бесноваться — независимо от того, что с ним происходит. Но это именно сдержанность, а не бедность, как иногда думают. Ахматова куда более сдержанна, на мой взгляд, чем Мандельштам. У нее есть то же, что наличествует у Кавафиса: маска.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу