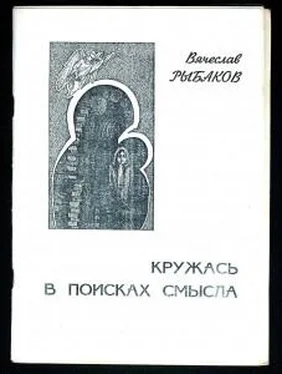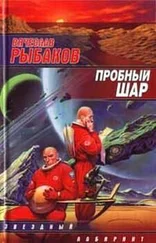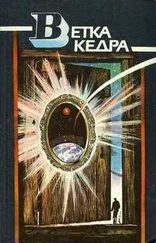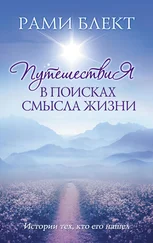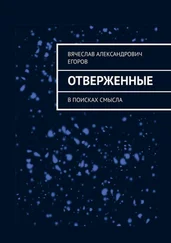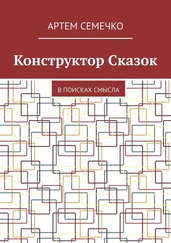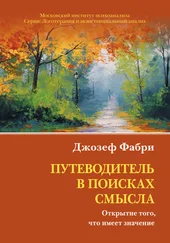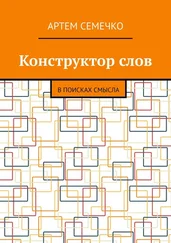Как только объектом фантастики стали не трансформации миров, а трансформированные миры, виток спирали оказался полностью пройден и, уже на новом уровне, вооруженная колоссальным новым арсеналом приемов создания разнообразнейших сцен для действия, фантастика безвозвратно ушла из той области литературы, где толковали о том, что бы надо и чего бы не надо изменять, и вернулась в ту великую область, где толкуют о том, как бы надо и как бы не надо жить.
Сказать, что после этого она встала в ряд с такими произведениями, как великие утопии средневековья (теперь воспринимаемые, скорее, как антиутопии) или желательными и нежелательными мирами Свифта, значит почти ничего не сказать. Во-первых, и сами эти произведения лежат в русле древнейшей традиции, загадочным образом присущей нашему духу. Дескать, стоит только убедительно и заманчиво описать что-либо желаемое, как оно уже тем самым отчасти создается реально, во всяком случае, резко повышается вероятность его реального возникновения в ближайшем будущем; а стоит убедительно и отталкивающе описать что-либо нежелаемое, как оно предотвращается, ему перекрывается вход в реальный мир. Мы тащим эту убежденность еще из пещер, где наши пращуры прокалывали черточками копий нарисованных мамонтов, уверенные, что это поможет на реальной охоте завтра, и твердо верили, что стоит только узнать подлинное имя злого духа и произнести его, окаянный тут же подчинится и станет безопасен. А во-вторых, апофеозом этой традиции для европейской культуры явились такие произведения, как Евангелия и Апокалипсис. Книга о царствии небесном и о том, как жить, чтобы в него войти и книга об аде конца света и о том, как жить, чтобы через него пройти.
По сути дела, беллетризованное описание желательных и нежелательных миров есть ни что иное, как молитва о ниспослании чего-то или обережения от чего-то. Эмоции читателей здесь сходны с эмоциями прихожан во время коллективного богослужения. Серьезная фантастика при всей привычно приписываемой ей научности или хотя бы рациональности является самым религиозным видом литературы после собственно религиозной литературы. Является шапкой-невидимкой, маскхалатом, в котором религия проникла в мир атеистов, нуждающихся, тем не менее, в суперавторитете, в объединительной вере и получающих их в виде вариантов будущего (или альтернативного настоящего, что психологически все равно), которых МЫ хотим и которых МЫ не хотим. Фантастика — единственное прибежище, где может почувствовать себя в соборе (но не в толпе) и помолиться (но не гневно заявить справедливые претензии) атеист, а их у нас, как ни крутите, немало. Ну что это, если не мольба, не крик души верующего, в силу воспитания сформулированный сознанием в виде достижений грядущей науки: «Русские решили, что лучше быть беднее, но подготовить общество с большей заботой о людях и с большей справедливостью, искоренить условия и самое понятие капиталистического успеха…» (Ефремов, «Час Быка»).
Отсюда — совершенно специфическая, удивительная роль, которую играла у нас в стране НФ в шестидесятых и семидесятых годах; возможно, она еще сыграет ее в будущем. Даже некое подобие религиозной организации, объединения единоверцев возникло… Какому еще виду литературы такое было под силу? На фантастических Вселенских Соборах проблема правоты или неправоты Экселенца — Сикорски (Стругацкие, «Жук в муравейнике») обсуждалась с той же страстью и с той же дотошностью, с какой века назад иные Вселенские Соборы обсуждали, кем порождается Дух Святой… Не шутите: так адепты нащупывали контуры основанной на гуманистически-коммунистических догматах этики. И лишь колоссальная эмоциональная притягательность созданного Стругацкими будущего в целом в состоянии была их на это подвигнуть.
А когда процесс оказался прерван, кризис серьезной НФ лишь по форме обусловлен был узурпацией издательских площадок профанаторами веры; на деле же — кризисом взрастившей фантастику секуляризованной религии. Даже сами фантасты, если работали честно, могли лишь повторять раз за разом: «Не хочу мора» — и пространно описывать этот мор; «Не хочу глада» — и во всех подробностях мусолить глад. И в какой-то момент количество, как это часто бывает, перепрыгнуло в качество. Описываемые все более мастерски, все более отвратительно, все более разнообразно и все более массово нежелательные миры стали восприниматься как единственная предлагаемая перспектива — и тем рассекли связь между пастырями и паствой.
Читать дальше