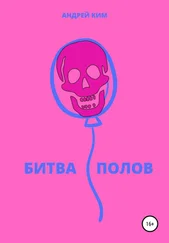Аннексия Крыма в 2014 году привела к еще большему усилению контроля над интернетом. Ксензов, главный цензор Роскомнадзора, становился все агрессивней, комментируя в Twitter события на Украине. Он разразился серией гневных твитов, объектами которых стали американские и российские СМИ, и заявил о «безумии» CNN, процитировавшего Збигнева Бжезинского, бывшего советника Белого дома по вопросам национальной безопасности.
16 мая он атаковал Twitter, и в этот раз ситуация была куда серьезней. В интервью «Известиям» Ксензов фактически обвинил Twitter в обслуживании интересов США: «У меня есть стойкое ощущение, что Twitter – это глобальный инструмент продвижения политической информации». И добавил: «Мы завтра же можем в течение нескольких минут заблокировать Twitter или Facebook в России. Мы не видим в этом больших рисков. Если в какой-то момент мы оценим, что последствия от "выключения" социальных сетей будут менее существенными по сравнению с тем вредом, который причиняет российскому обществу неконструктивная позиция руководства международных компаний, то мы сделаем то, что обязаны сделать по закону».
Эта была серьезная угроза, высказанная публично. Премьер-министр Медведев раскритиковал Ксензова, а Роскомнадзор предпочел официально не поддерживать его позицию. Ксензов в тот же день написал в Twitter: «Не собираюсь извиняться. Готов нести ответственность за свои слова».
Угроза дошла до Twitter. Через несколько дней компания заблокировала для российских пользователей аккаунты радикальной украинской партии «Правый сектор», сославшись на решение российского суда. Тактика Кремля по запугиванию мировых интернет-гигантов до какой-то степени работала.
Американская правозащитная организация Electronic Frontier Foundation указала на важный момент в решении Twitter: «Есть две причины, по которым действия Twitter разочаровывают. Во-первых, компания не имеет в России ни сотрудников, ни активов, а потому не обязана исполнять решения российского суда. К тому же это решение касается даже не русского аккаунта, а украинского. Хуже того, аккаунт "Правого сектора" имеет откровенно политическое содержание. Если Twitter не готов встать на защиту политических принципов в стране, где независимые СМИ находятся под постоянно увеличивающимся давлением, то что же тогда компания готова отстаивать?»
4 июля Государственная дума приняла еще один закон, на этот раз запрещающий хранение персональных данных российских граждан за пределами России. И снова предлогом стали разоблачения Сноудена. Один из членов «Единой России» даже предложил номинировать Сноудена на Нобелевскую премию.
Закон требовал от глобальных платформ перенести свои серверы на территорию России до 1 сентября 2015 года. После этого Google, Twitter и Facebook отправили в Москву высокопоставленных сотрудников на переговоры, детали которых не разглашались. 28 июля Ксензов, для которого Twitter превратился в главное средство связи с публикой, написал: «Они начали против нас войну. Полноценную Третью мировую, информационную». Через несколько дней он торжествующе ретвитнул новость РИА «Новости»: «Apple впервые начала хранить данные пользователей на территории Китая».
Тем временем давление на глобальные платформы продолжало нарастать. Из всей троицы только Google имел офис в Москве. За отношения компании с государственными органами отвечала Марина Жунич. Начав карьеру в московском офисе «Русской службы BBC», она вскоре перешла на работу в ОБСЕ, а в 2000-х успела поработать в нескольких международных компаниях, отвечая за связи с общественностью. В Google она пришла в 2009-м, когда президентом был обожавший интернет Медведев. Летом 2012-го Жунич внезапно оказалась в эпицентре бури. В Кремле обсуждали введение интернет-фильтрации, и в июле на YouTube появилось интервью Жунич, в котором она критиковала предложение о блокировке сайтов по IP {219}. Она присутствовала на большинстве встреч в Министерстве связи, и прокремлевские интернет-предприниматели открыто возмущались ее слишком активной позицией.
Два года спустя, в июне 2014-го, выяснилось, что за Жунич следили частные спецслужбы, нанятые бизнесменами, приближенными к Кремлю. Те же люди шпионили и за журналистами «Дождя» и «Новой газеты». Сводки наружного наблюдения за Жунич всплыли в Сети. Google промолчал. Мы пытались поговорить с Жунич на нескольких мероприятиях, но безрезультатно. Два дня мы переписывались с ней в Facebook. Она вела себя крайне осторожно, а на вопрос о слежке ответила: «Нет, я не буду это обсуждать» {220}.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
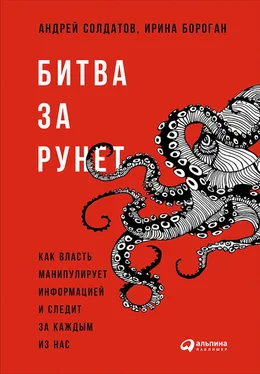
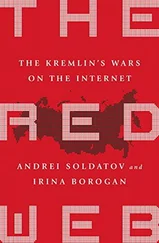
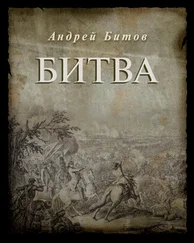
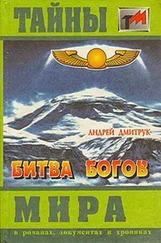
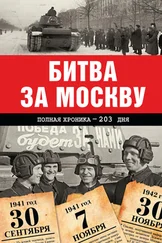
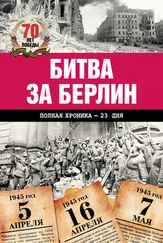
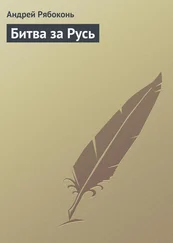
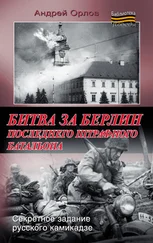

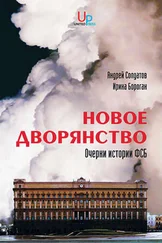
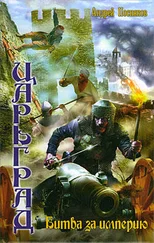
![Андрей Архипов - Битва за ресурсы [litres]](/books/391345/andrej-arhipov-bitva-za-resursy-litres-thumb.webp)