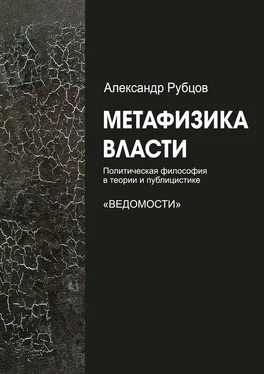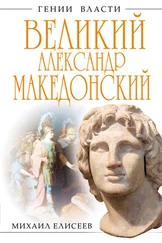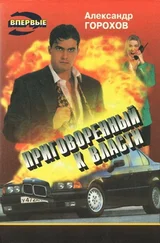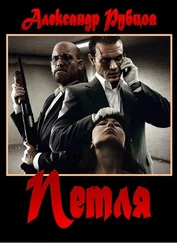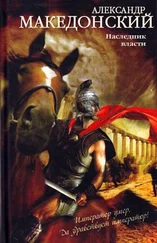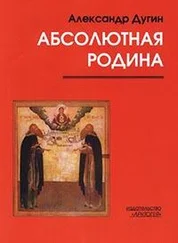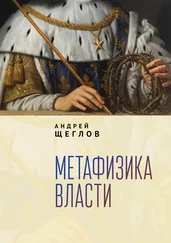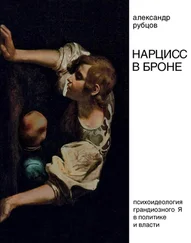Даже из газетных публикаций такого рода часто легко делаются академические статьи для строго научных журналов, в том числе «ваковских» и «рецензируемых». Иногда по плотности мысли газетная статья может перевешивать главу в монографии. При этом малая форма, как правило, отнимает в несколько раз больше удельного времени, чем статья научная в самом высоком смысле этого слова. Здесь, как ни странно, все сложнее с формулировками и впихиванием смысла в заданный объём. Кстати, отсюда такое сгущение образов, метафор, тропов (как выражается мой любимый редактор из «ОЗ», здесь ты, парень, замастерился). Если всерьёз, все это не для красоты, а для сжатия смысла и экономии места. Ту же мысль можно изложить сухо, только это… съест не одну лишнюю сотню знаков.
И, наконец, проблема повторов, как правило, возникающих при сборке в один массив множества отдельных публикаций из оперативной периодики.
Если говорить об «идеологическом», незавидная судьба российской демократии во многом связана с социальным составом нашей прогрессивной общественности. В этой либеральной интеллигенции слишком много людей из науки, склонных переносить в политику стандарты научного сообщества. Речь не о логике, достоверности факта, критике источников, верифицируемости и фальсифицируемости утверждений… Но нередко приходится слышать даже от близких: я это уже читал, ты это уже писал… Или просто – дежавю.
Работа в публичном пространстве – это не академические публикации, где повторы или самоцитирование не приняты и преследуются (в зависимости от объёма). В идеологической работе повторение – мать усвоения. Вплоть до типовых клише. Возможно, даже в первую очередь клише, поскольку именно они и усваиваются. Здесь стесняться не приходится. Повторы здесь не от недостатка креатива, а от понимания, как работают тексты и сознание. Оппоненты либералов, обычно научной этикой не скованные, особым интеллектом и литературным даром часто не отягощённые, штампуют мемы, старые «находки» и надоевшие остроты без зазрения совести – и достигают результата!
Поэтому я сознательно не снимал даже явных, почти текстуальных повторов. Наоборот, интересно наблюдать, как работает комбинаторика, как одни и те же смыслы изменяются, попадая в разные среды.
И наконец, о философском и культурном контексте таких сборок – о постмодерне. В такой форме письма и сборки есть дань идеям децентрации, нелюбовь к иерархии, внимание к множественному и маргинальному, периферийному и малому, утверждение их равноценности. Это тот случай, когда форма текста отвечает топологии концепции, её пространственной модели. Но и это лишь отчасти. Идеи выхода из постмодерна, наоборот, предполагают набрасывание на такую фрагментарную мозаику жёсткого концептуального каркаса. Однако об этом, надеюсь, в следующих выпусках серии.
Книга издается в качестве учебного проекта в рамках курса «Цифровое книгоиздание» факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ под руководством А. Гаврилова и В. Харитонова.
За последнее время Россия успела в разных долях и акцентах испытать почти все известные обоснования отношений господства и подчинения – трансцендентальные и сакральные, идеологические и социально-психологические, рационально-прагматические, операционально-технологические и даже банально силовые.
Уроки легитимности
В поисках утраченной легитимности
Итог года: все изменилось, но никуда не сдвинулось. Общество шагнуло вперед, попятилось, власть с перепугу пообещала, естественно, обманула, а теперь мечется в судорогах реакции. Закручиванию гаек мешают срывы резьбы; протест ходит кругами – ищет новые форматы. В энергичных пробуксовках и топтании на месте вконец стирается тонкий слой несущей поверхности, пока еще удерживающий всю эту суету над провалом. Уже ясно, что выход из ситуации сложнее, чем казалось, и точно не в горизонте обыденного понимания.
В моменты нестабильности, на сквозном транзите, особенно важен адекватный язык описания. Тем более в стране, в политической фактуре которой всë сплошь имитации и обманки, а слова и вещи друг с другом как не родные. Однако ураганное перерождение затронуло такие глубины социального порядка, что взывает к темам, которые пока вообще вне языка, к предметам сразу невидимым и почти не обсуждаемым, а значит, «непромысливаемым». В политическом своя архитектоника: помимо конструкции власти есть природа полей и сил, которые эту конструкцию держат. Это как разница между основами конструирования и теорией гравитации. Или первотолчка.
Читать дальше