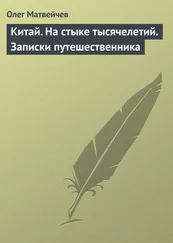Другие исследователи, впрочем, уверены, что подобная «невнимательность» венецианца вполне объяснима. Будучи чиновником монгольской администрации, Марко Поло вряд ли жил в самой гуще китайской жизни и мог не знать всех ее тонкостей. Равно как и языка, необходимости учить который, осваивая сложные иероглифы, у него просто и не было. Чай к тому времени был давно известен в Персии и диковинкой для европейских купцов уже не являлся. Вместе с тем, Марко Поло демонстрирует удивительную осведомленность о жизни при дворе Хубилая, и явно не вычитанную из персидских книг. В главе LXXXV, например, приводится подробный разбор злодеяний вельможи Ахмаха и обстоятельств его убийства полководцем Ванху. Те же сведения – до деталей – приводятся в китайских летописях.
И именно от Марко Поло европейцы узнали об организации почтовой службе в империи Хубилая, сети почтовых станций, одновременно являющихся постоялыми дворами. Система почтовых станций (ямов), на каждой из которых всегда стояли наготове до нескольких сотен лошадей, позволяла стремительно доставлять важные донесения на значительные расстояния (до 500 км в день). «Такого величия, такой роскоши не было ни у какого императора, ни у одного короля, да и ни у кого, – уверял венецианец. – На этих всех станциях, знайте по правде, более двухсот тысяч лошадей готовы для гонцов, а дворцов, скажу вам, более десяти тысяч» [29] Книга Марко Поло. М.: Гос. изд-во географической литературы, 1956. С. 121.
.
Восхищенный комфортом ямской системы, Поло не осознавал подлинного значения этого нововведения. Именно на эффективности транспортной и почтовой служб, связавших многочисленные территории в единый механизм, во многом основывалось величие стомиллионной империи Хубилая, простиравшейся от берегов Днепра до Желтого моря. По замечанию французского синолога Жана-Пьера Дрежа, система почтовых станций в Китае не нова: «Ее зарождение восходит к первому императору Цинь и к централизации государства в конце III века до н. э. Но в правление монголов сеть значительно разрослась и распространялась на всю территорию их империи, то есть на значительную часть Азии» [30] Дреж Ж.-П. Марко Поло и Шелковый путь. М.: ООО «Изд-во Астрель»; ООО «Изд-во ACT», 2006. С. 80.
.
Настаивая на высочайшей эффективности системы управления, внедренной монголами на покоренных территориях, выдающийся русский востоковед академик Василий Бартольд решительно опроверг западнический миф о монголах как о дикой разрушительной толпе варваров. «Монголы принесли с собою очень сильную государственную организацию, которая, несмотря на все недостатки, была более стройно выражена, чем прежние государственные системы, – настаивал он. – Везде вы видите после монголов большую политическую устойчивость, чем до монголов…. Московского царства не могло появиться без монгольского ига. … То же самое произошло в Китае, несмотря на его старые традиции. До монголов китайское государство часто распадалось на отдельные части, и даже в момент завоевания монголами было разделено на два государства. Но после монголов, вплоть до новейшего времени, Китай составлял одно целое. Вообще в странах от России до Китая мы видим больше политической устойчивости после монголов, чем до них, на что, конечно, оказала влияние их система управления» [31] Бартольд В. В. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира. // Бартольд В. В. Сочинения. Т. II. Ч. 1. М.: Издательство восточной литературы, 1963. С. 719–720.
.
Неслучаен вектор политической деятельности русских князей, направленный в те годы не на Европу, а на Орду как на более эффективное и развитое государство (русские князья и представители духовенства часто совершали путешествия ко двору великих ханов, годами жили в Орде). В самом деле, какую страну в XIX в. мы назовем развитой, у которой есть железные дороги, или у которой их нет? Какую страну мы назовем развитой в XX в., у которой есть интернет, или у которой его нет? Ответ очевиден. То же и с монгольской империей XIII–XIV вв., обладавшей эффективнейшей на тот момент технологией связи, которая со временем стала достоянием возрождающейся России.
Эффективнейшая технология связи, которой располагала монгольская империя XIII–XIV вв., со временем стала достоянием возрождающейся России.
А западные христианские миссии к монгольскому престолу продолжались до середины XIV в. Были они немногочисленны и целей своих (обращение варваров в христианство, склонение их к союзу против мусульман) не достигли. После изгнания монголов в 1368 г. и с утверждением династии Мин, весьма подозрительной ко всему чужеземному, подобные контакты и вовсе прекратились.
Читать дальше

![Евгений Примаков - Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник]](/books/27003/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo-thumb.webp)

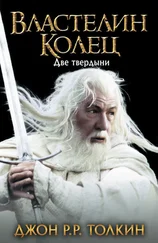
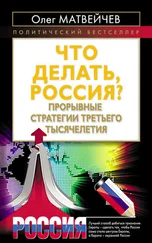
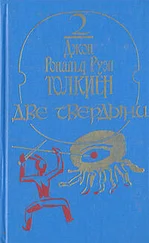
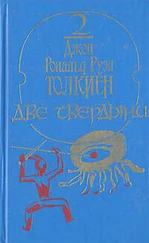
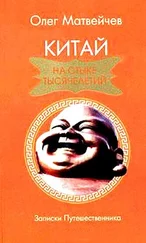

![Ник Пайенсон - Наблюдая за китами [Прошлое, настоящее и будущее загадочных гигантов]](/books/397323/nik-pajenson-nablyudaya-za-kitami-proshloe-nastoyache-thumb.webp)