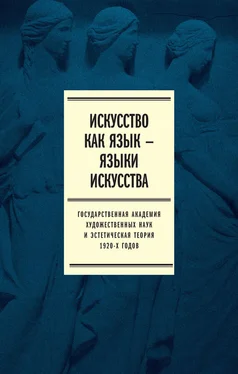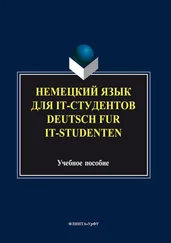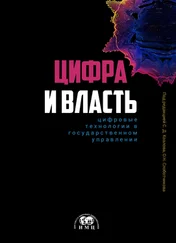По замыслу своих основателей, к числу которых относились художники (В. Кандинский), философы (С. Франк, Г. Шпет), искусствоведы (А. Габричевский, А. Сидоров), литературоведы (П. Коган) и многие представители гуманитарных и естественных наук, Академия должна была стать новой институцией междисциплинарного искусствознания. В ней предполагалось соединить все направления изучения искусства вместе с организацией художественной педагогики и презентации искусства с целью преодоления дисциплинарной раздробленности академического исследования искусства. Важно подчеркнуть, что данная институциональная инновация диктовалась не одной лишь логикой государственного администрирования культуры; она с самого начала заключала в себе концептуальный мотив, а именно стремление разработать новые понятийные системы координат для научного и публичного дискурса об искусстве и тем самым обеспечить развивающимся наукам об искусстве методологическую и социальную легитимность. Этот мотив был ясно артикулирован в центральной задаче Академии подвергнуть критическому анализу весь исторически сложившийся набор эстетических и искусствоведческих понятий и вслед за этим разработать новые методологические принципы для всего спектра исследований в области наук о культуре.
В силу обстоятельств роспуска ГАХН, сопровождавшегося чистками и публичными обвинительными кампаниями, [4] См.: Ю. Н. Якименко . Из истории чисток аппарата: Академия художественных наук в 1929–1932 гг.
а также последовавших репрессий против ведущих ее членов масштабность научной программы Академии и результаты ее исследовательской работы были вытеснены из научного поля и замалчивались в течение всего советского периода. Даже такие активные участники этой работы, как А. Габричевский, А. Сидоров, А. Лосев, в советское время нигде не высказывались о своей деятельности в Академии. Вследствие этого теоретический проект ГАХН оказался маргинализованным в научном сознании ХХ в., что отразилось и на представлении о научных дискуссиях 1920-х гг., которое создавалось историками гуманитарных наук во второй половине столетия, фокусировавшими свои исторические реконструкции в основном лишь на полемиках формалистов с социологистами. [5] К редким исключениям из господствующего тренда прежнего периода относятся работы А. Ханзена-Лёве, начавшего в ходе своих исследований русского формализма заниматься «формально-философской школой» в ГАХН (Г. Шпет и его единомышленники). Но и эти штудии были опубликованы лишь в недавнее время. См.: A. Hansen-Löve . Die «formal-philosophische Schule» in der russischen Kunsttheorie der zwanziger Jahre.
Такой искаженный образ поля научно-художественных дискуссий 20-х гг. начинает подвергаться корректировке лишь в постсоветское время на основе изучения личных архивов видных деятелей ГАХН Габричевского, Зубова, Лосева, Шпета, Кандинского и других, а также обширного фонда ГАХН в РГАЛИ. [6] См.: статьи специального номера журнала «Вопросы искусствознания» (№ XI [2 / 97]); RAKhN – The Russian Academy of Artistic Sciences / N. Misler (ed.); Словарь художественных терминов. ГАХН. 1923–1929 / Под ред. И. М. Чубарова. М., 2005; статьи в тематическом блоке «Г. Шпет, ГАХН и интеллектуальная среда 1920-х гг.» / Под ред. Н. С. Плотникова.
Предметом подробного изучения в этот период становятся специальные области искусствознания, такие как изучение пространственных искусств [7] N. Podzemskaia. La «nouvelle science de l’art» face aux avant-gardes dans la Russie soviétique des années 1920; Art et abstraction / N. Podzemskaia (ed.).
или свободного танца (в хореологической лаборатории ГАХН), [8] Н. Мислер. Вначале было тело. Ритмопластические эксперименты начала XX века: хореологическая лаборатория ГАХН; И. Сироткина . Свободное движение и пластический танец в России.
а также связь теоретического и экспериментального искусствознания в ГАХН. [9] Form und Wirkung. Phänomenologische und empirische Kunstwissenschaft in der Sowjetunion der 1920er Jahre / A. Hansen-Löve, B. Obermayr und G. Witte (Hrsg.).
В продолжение этих исследований настоящее издание впервые предпринимает попытку систематической реконструкции основных направлений философии и теории искусства, развивавшихся в ГАХН и, прежде всего, на ее Философском отделении.
Проект «новой науки об искусстве», [10] О программе «новой науки» см.: А. Габричевский . Новая наука об искусстве. С. 25–26; Д. С. Недович. Задачи искусствоведения. С. 7 сл.; Ф. Стукалов- Погодин. Новая наука об искусстве и поиски новой классики. С. 96–109.
центральным форумом обсуждения и реализации которого стала в 1920-е гг. ГАХН, сформировался как ответ на ситуацию «кризиса», возникшую в европейской культуре начала ХХ в. «Кризис» в науке, искусстве, философии как неотъемлемая часть кризиса более глобального, приведшего к мировой войне и революции, был одной из самых распространенных тем обсуждения в 1910–1920-х гг. Современники усматривали причины кризиса культуры внутри нее самой, в процессах ее дифференциации и плюрализации, вызывающих распад прежних категориальных и ценностных иерархий.
Читать дальше