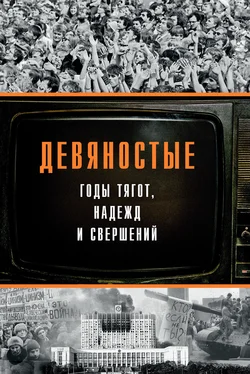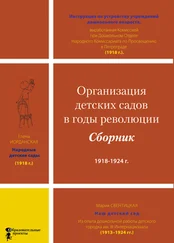Но ответ на ваш вопрос, мне кажется, надо искать не здесь. Все это конкретные исторические события. Они могли быть такими, они могли быть другими. Но важно все-таки, что революция 1991 года стала значимым событием, потому что она открыла дорогу реформам, без которых очень скоро страну ожидал крах. Кроме того, это была такая переломная точка и такая народная эйфория, вера в то, что назавтра мы победим, что будут у нас и демократия, и демократическое государство, и рыночная экономика – все свойства цивилизованного современного государства.
Пусть я ограниченный правым флюсом экономист, но я считаю, что ключевая задача тогда состояла в том, чтобы перейти от плановой экономики к рыночной. И события августа обеспечили решение этой проблемы. Они вывели на рыночные реформы, которые начались с конца 1991 года. И если мы сегодня добились каких-то успехов, то прежде всего благодаря этим реформам. Это действительно была пора надежд, которые потом были в значительной степени погашены в ходе труднейших преобразований и убиты в последние годы. Вот это мне, конечно, не нравится.
Также я хочу сказать, что, кроме этого, была очень серьезная проблема. У нас сложились качественно иные условия начала реформ по сравнению и со странами Центральной и Восточной Европы, и с бывшими союзными республиками СССР. Ведь Россия, как и бывший СССР, – империя. Время империй кончилось, так страна не могла больше развиваться. Но из-под ее имперского влияния вырвались сначала восточноевропейские страны, а затем и бывшие союзные республики. Для массового сознания народов этих стран сам факт отрыва от России воспринимался как акт освобождения. Это давало силы переносить иногда даже более жесткие экономические реформы, чем в России, вспомним, например, страны Балтии. У нас же на объективные трудности, связанные с реформами, наложился еще и так называемый имперский синдром. Свершившееся воспринималось как утрата «величия страны». И сейчас этот «имперский синдром» резко выплеснулся в связи с присоединением Крыма к России в начале 2014 года.
Подчеркну, что я в свое время был сторонником сохранения Союза и ужасно злился на Гайдара за то, что он и его коллеги соглашались с выделением России, даже боролись за это. Я долгое время не поддерживал такую позицию. Но со временем, после долгих размышлений я согласился с тем, что в основном Гайдар и его коллеги были правы. Мы получили возможность построить демократическое национальное государство, то есть современное государство гражданской – не этнической – нации. При этом вновь подчеркну, что и для меня распад СССР был очень тяжелым событием. Приведу простой факт: у меня отец похоронен в Москве, а мать – в Одессе. И я не мог считать Украину другой страной. Мне было с этим трудно смириться. Но история на наших глазах это сделала. В течение всего четверти века мы наблюдали, с одной стороны, фантомные боли империи, а с другой – всплеск национализма не только в республиках, отделившихся от России, но и в самой России. Это очень сложная и тонкая проблема. Ведь националист часто стремится переложить ответственность за свои беды на другого, а надо понять и тех и других и, повторю, в каждой из новообразованных стран надо строить именно гражданскую нацию, а не этническую.
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Евгений Григорьевич, я хотела бы вернуться на шаг назад. Вы упомянули, что в левадовских опросах лишь малая доля людей оценивает август 1991 года как победу демократической революции. Почему?
Е. ЯСИН: Я уже не раз упоминал о том, что было два фактора. Один, объективный, фактор – очень тяжелые испытания в годы рыночных реформ от либерализации цен, колоссальной инфляции, потери сбережений и в 1992 году, и от дефолта 1998 года. Это действительно были жуткие потрясения. И рассчитывать на то, что такие события кого-то приведут в восторг, было невозможно. А второй момент, конечно, это действие пропагандистской машины, которая все время, надо сказать с возрастающим искусством, промывает мозги. И поэтому мы наблюдали, особенно в 2000-е годы, как меняются настроения. Я не хочу этот фактор отделять от первого.
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Факторы факторами, но согласитесь, что так называемые демократические партии не проходят в Думу. Или это тоже пропаганда?
Е. ЯСИН: Нет, конечно. Тут есть и вина самих демократических партий, и отсутствие прочной демократической традиции. Вот интересно, мы в «Либеральной Миссии» издали книжку Ричарда Пайпса о русской консервативной мысли. Он обратил внимание на такое интересное обстоятельство. В литературе об общественных движениях в России все время и на Западе, и в России речь идет о левых радикалах. И почти никогда – о консервативных людях. А уж тем более не о демократах и либералах. Единственный либерал, которого упоминали иногда, был Иван Сергеевич Тургенев. Относили к либералам также Константина Дмитриевича Кавелина, Бориса Николаевича Чичерина, хотя их много было на самом деле. Все это был истеблишмент – дворянство, разночинцы. Но в основном преобладало, с одной стороны, правоконсервативное течение в поддержку самодержавия, включая националистическое, начиная с Александра III, а с другой – революционеры, которые считали, что стоит только сломать, разрушить, уничтожить частную собственность, как наступят всеобщая справедливость и счастье всех угнетенных.
Читать дальше