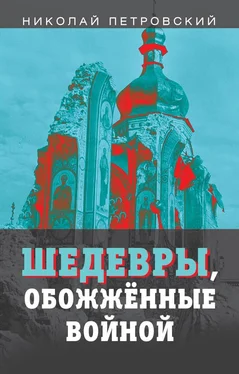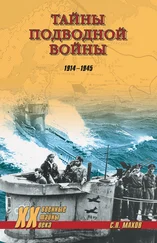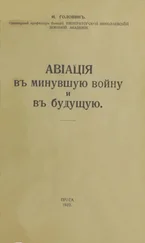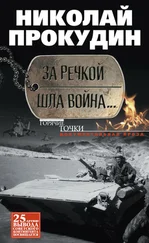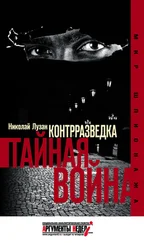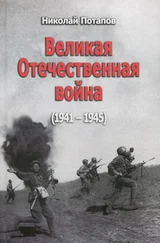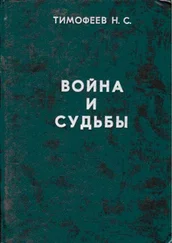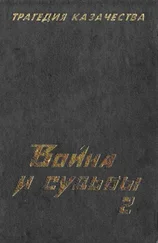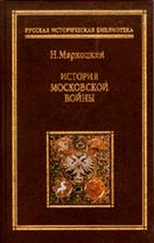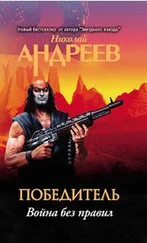По инициативе Алексея Толстого был поднят вопрос об издании альбомов с изображением погибших памятников. Были намечены два издания – альбом для заграницы, содержащий 100–150 снимков большого размера «того, что было, и того, что осталось после разрушений», и скромное издание для советского читателя: «небольшие фотографийки, которые дают фактический материал».
В молодые годы Игорь Грабарь подолгу жил в Германии и хорошо знал сокровища немецких музеев. На одном из заседаний экспертного совета, рассматривая проблему возмещения наших потерь в сфере культуры, он говорил: «Мне казалось бы, что мы никоим образом не должны покушаться на такие экспонаты германских музеев, которые являются национальными памятниками самой Германии. Нам… важно получить то, что они успели собрать со всего света».
До взятия Берлина было еще далеко, только-только отгремел Сталинград, а Грабарь был убежден, что из Берлинского музея Пергамон в Советский Союз в порядке компенсации будет вывезен Пергамский алтарь – знаменитый античный рельеф, запечатлевший битву греческих богов и гигантов. «Пергамский алтарь, – говорил он, – мы непременно вывезем, но вот незадача – что они (союзники. – Прим. Н.П.) зачтут за него?»
Академик Грабарь и доктор искусствоведения В.Н.Лазарев 29 сентября 1943 года обратились с письмом к Сталину, в котором указывали, что возмещение за ущерб, причиненный художественным ценностям СССР, должно быть получено в виде экспонатов, собранных в богатейших германских музеях. Подготовленный ими список эквивалентов включал 1745 первоклассных предметов искусства на общую сумму более 70,6 миллиона американских долларов.
Оставив в стороне все другие аспекты, нельзя не поразиться тому, что в 1943 году, когда впереди было еще полвойны, Грабарь и его коллеги по Комиссии нисколько не сомневались, что СССР как стране-победительнице будут в законном порядке переданы «Сикстинская мадонна», резные алтари Нюрнберга, тот же Пергамский алтарь. И ведь все эти и многие другие шедевры в самом деле были вывезены в Москву и Ленинград!
Правда, спустя десять лет 90 процентов перемещенных из Германии в СССР культурных ценностей были возвращены «братской ГДР». Но это тема отдельного разговора…
Никаких ссылок на Гаагскую конвенцию в материалах ЧГК я не нашел. Да стоит ли удивляться? В то время на повестке дня стояли совсем другие вопросы. Надо было организовывать поиски похищенных историко-культурных ценностей и хотя бы частично компенсировать немецкими музейными экспонатами тот колоссальный ущерб, который был причинен культурному достоянию нашей страны.
Оценить его, как мы уже знаем, чрезвычайно трудно. Вопрос о том, что ценнее, – Реймский собор или церковь Спаса на Нередице – попросту лишен смысла. У каждого народа своя шкала национальных ценностей. Но ясно одно: при любой системе подсчета военные потери нашей страны, в том числе в области памятников культуры, ни с чем несравнимы и остаются невосполненными.
Глава 2
Зондеркоманда «Кюнсберг» и другие
Так случилось, что при произнесении слова «реституция» мы смущенно розовеем и сразу же начинаем неловко оправдываться. Вопрос этот достаточно сложный, но занимать все время позу оправдывающейся стороны не слишком продуктивно, да и исторически вряд ли оправдано. Попробуем разобраться.
Нельзя не заметить, что в последние годы заметно активизировались усилия Германии по возвращению культурных ценностей, перемещенных на территорию России после окончания Второй мировой войны. К сожалению, наши западные оппоненты, как правило, стремятся изолировать проблему «русских трофеев» от проблемы «русских потерь». Принятая ими концепция реституции культурных ценностей напоминает улицу с односторонним движением. А по ней далеко не уедешь.
Известно, что еще до нападения на СССР в гитлеровской Германии были созданы специальные организации для изъятия и вывоза культурных ценностей с оккупированных территорий. Из соображений конспирации названия они носили самые неожиданные. Так, одна из наиболее крупных бандитских фирм солидно именовалась исследовательским и просветительским обществом «Наследие предков». Зловещий отблеск на него бросало лишь имя покровителя – рейхсфюрера СС Гиммлера. «Просветительской» деятельностью того же профиля занимались также Оперативный штаб «Рейхсляйтер Розенберг», батальон особого назначения «Кюнсберг», названный так по имени его командира и подчинявшийся непосредственно министру иностранных дел Риббентропу, и отряд ротмистра Зольмса-Лаубаха.
Читать дальше