Белло шарит у Блума под юбками, сравнивает его пенис с «орудием» Бойлана, размером «что надо», и предлагает ему усвоить стиль поведения женственного трансвестита: «Легкая, смело укороченная юбочка, приподнятая до колен, чтоб показать белые панталончики, это могучее оружие. <���…> Обучись плавной семенящей походке на четырехдюймовых каблуках а-ля Луи Кэнз, усвой греческую осанку, круп выпячен, бедра колышутся маняще, коленки скромненько вместе, целуются <���…>. Потворствуй их содомским порокам… На что ты еще годишься, импотент?» А Блум, «сунув в рот палец», осуществляет чувственный акт сосания, который Фрейд, следуя мнению венгерского педиатра Линднера, интерпретировал как патологический, мастурбирующий и аутоэротичный «образ женщины как ребенка» [Lindner; The Standard Edition… , vol. 7, p. 179–185; Gilman, 1989, p. 265].
Другими словами, трансформация Леопольда Блума в «женщину» и, более того, в патологическую, инфантильную и извращенную фигуру «псевдоженщины», способной на «содомский грех», не является знаком того, что он стал «новым женственным мужчиной, тайная мужественность которого может соблазнять и подчинять непокорных новых женщин», как говорят Гилберт и Губар [Gilbert, Gubar, p. 366], а скорее служит проявлением взаимосвязи категорий еврея, гомосексуала и «женщины» в культуре конца XIX – начала XX века.
Эти примеры перехода гендерной границы сосредоточены на феминизации еврейского мужчины: распространенный, даже навязчивый спутник антисемитской мысли, она сопряжена также с жестом отчуждения («это не я», «это не-я»), примером которого может служить «узнавание» еврея в «Моей борьбе», определяющее его как зловещего ( unheimlich ), сверхъестественного и вечно возвращающегося – иными словами, как самого Вечного Жида. Я хотела бы завершить этот раздел, коротко рассмотрев пару примеров антисемитской гендерной критики, использующих несколько иной подход, а затем взглянуть на театральную стратегию, меняющую трактовку образа еврея-трансвестита.
Главный герой рассказа Жан-Поля Сартра «Детство хозяина» – мальчик, неуверенный в своей гендерной роли и предающийся фантазиям о своей матери в образе мужчины. «А что будет, если снять с мамы платье, она наденет папины брюки? Неужели у нее сразу вырастут черные усы?» [Sartre, p. 86] Как отмечает Элис Каплан, «к 1939 году усы – однозначный культурный маркер Гитлера» и «сложный идеологический символ» внутри произведения, поскольку Люсьен проецирует усы на лицо матери и таким образом на лицо родины-матери Франции. Объектом фиксации для Люсьена служат не только усы – рассказ заканчивается тем, как он смотрит в зеркало и решает отрастить свои, – но и антисемитизм. Прочитав роман Les Déracinés («Изгнанники») Мориса Барреса, он определяет свою идентичность, исключая евреев как «нефранцузов». Его ранний опыт столкновения с гомосексуальностью усиливает решимость обрести «мужественность». Подруги матери обращались с ним как с девочкой, и в результате он создает собственный образ мужественности через воображаемый образ матери-француженки как фаллической женщины, противопоставленный евреям – и еврею в себе (гомосексуалу, «маленькой девочке», ребенку). «Только антисемитизм, – метко замечает Каплан, – оказывается способен дать ему дар мужественности, которого он взыскует с первых строк рассказа» [Kaplan, p. 18].
Мой второй пример взят из фильма «Кабаре», рисующего жизнь в декадентских кругах Берлина, где – как мы уже заметили – трансвестизм играл важную роль. «Женщины» (Эльке, Инге), которых главный герой встречает в мужском туалете и ночном клубе, не еврейки, насколько нам известно: нам говорят, что это мужчины-немцы, дрэг-квины. Но в эстрадном номере, исполняемом Джоэлом Греем, демоническим конферансье, указание на еврейство все же присутствует, пусть и умело скрытое в непристойной последней строчке песенки, кажущейся на первый взгляд абсолютно проходной и бессодержательной. Он обращается к самке гориллы в розовом платьице, причем рефреном служит фраза «Если бы вы посмотрели на нее моими глазами…». Песня очевидно должна выглядеть жалобой злосчастного влюбленного на жестокость окружающего мира, не желающего признать высокие достоинства его предмета. Все это время горилла виснет у него на руке, хлопает ресницами и вообще делает из себя посмешище. Так продолжается до конца песни, когда за рефреном «Если бы вы посмотрели на нее моими глазами…» следует дополнение заговорщицким шепотом: «…она бы совсем не выглядела еврейкой».
Читать дальше



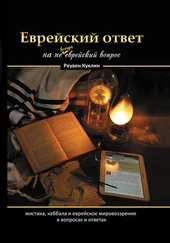



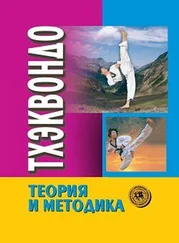


![Коллектив авторов - Все в прошлом [Теория и практика публичной истории]](/books/430176/kollektiv-avtorov-vse-v-proshlom-teoriya-i-praktika-thumb.webp)

