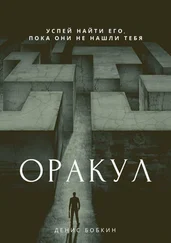Но ты, читатель, не спеши с выводами. Студентке-журналистке, жаловавшейся на безденежье, книжные заработки не нужны – она поденщиной и флиртами больше заработает. Выпускница-филологиня продала свои тридцать страниц в качестве диплома одной девочке на курс младше себя за вполне приличные деньги. Отвергнутый мною труд американского структуралиста сделал сенсацию в журнале, который я тут назову УФО (Универсальные Филологические Открытия). Труд моего друга-провинциала в издательстве отвергли как скучный и чересчур объемный – куда им четыреста страниц, да еще и со сносками? А вот сочинение глянцевого журналиста, где на две страницы три соития и четыре вранья, взяли, оплатили по высшему разряду и велели благодарить.
Мы все думаем, что выживает хорошо работающий, умный и добросовестный. А это не универсальный закон и не для всяких времен действует. Хорошо выживает тот, кто умеет приспосабливаться. А приспосабливаться к эпохе деградации – как раз и значит либо работать плохо, либо не работать вовсе и уметь получать за это деньги. Вот кто становится героем времени. Как в девяностые.
Но ты, нетерпеливый читатель, опять же не спеши. Ибо главная мудрость жизни заключается в том, что в краткосрочной перспективе всегда торжествует зло, а в долгосрочной – добро. В этом историческом парадоксе и кроется объяснение главного противоречия: вокруг нас все отвратительно, но в конце концов обязательно получается правильно. Смотришь вокруг и говоришь: прямо-таки последние времена! Проходит десять лет – и понимаешь, что не последние. Студентку-журналистку, любительницу легкой и нервной клубной жизни, выгнали с журфака за пропуски. За диплом, который выпускница филфака продала младшей подруге, поставили тройку. Работу, вышедшую в УФО, разругали ревнивые, эгоцентричные коллеги – все теоретики, в общем, одинаковы, ибо искусство, объединяющее всех, им по барабану. Издательство, решившее предпочесть дешевый и лживый труд глянцевого журналиста, лопнуло. А книгу серьезного провинциального автора я пристроил в серьезный издательский дом, уцелевший благодаря тому, что он издает классику.
Так что в стратегической перспективе, на которую ставлю я, добро по-прежнему на коне. Жаль, не все до этого доживут.
О том, насколько это сбылось, можно будет уверенно сказать лет через пять.
Время глума
Январские тезисы
1.
После изобретения оружия массового поражения мировые войны перешли в формат всемирных финансовых кризисов.
Это связано как с риском полного уничтожения Земли в случае глобальной войны, так и с отсутствием пассионарных учений, которыми могли бы вдохновляться новые Тамерланы.
Можно без натяжки сказать, что финансовый кризис – мировая война эпохи постмодернизма, когда умирать не за что.
Главной приметой XX века – империалистического, в чем сходилось большинство экономистов, – были именно мировые войны. Империализм оказался не высшей и даже не последней стадией капитализма. После него наступил глобализм. Во время глобализма воюют только террористы, хамас с Израилем и Россия с Грузией. На мировой арене все это явления заметные, но маргинальные.
От войны кризис отличается тем, что при нем не убивают до смерти. Сходство их, напротив, заключается в том, что и война, и финансовая катастрофа примерно раз в тридцать – пятьдесят лет напоминает человечеству о фундаментальных вещах, которые человеку свойственно забывать. Дело забывчиво, тело заплывчиво. В качестве регулятора нравственности кризис, безусловно, гуманнее войны, но его эстетическое оформление близко к военному. В конце концов, сколь это ни парадоксально и ни жестоко звучит, человек способен воспринять лишь определенное количество жестокости – в какой-то момент он тупеет и перестает усваивать происходящее. В этом смысле на его мораль примерно одинаково воздействует гибель десяти соотечественников, десяти тысяч неприятелей или одного близкого родственника.
В результате от всякой войны остается эстетика. Она долго еще напоминает человечеству о главных ценностях вроде взаимовыручки и трудолюбия, пока оно не зажрется окончательно.
Показателем критического уровня зажратости является гламур. Гламур, а именно эстетизация потребления, сопряженная со всемерным замалчиванием и уничижением производства, возникает во всяком обществе, стоящем на пороге катастрофы, и сигнализирует об этой катастрофе нагляднее, чем РОЭ – об инфекции. Первый – не считая пятивекового упадка Рима – внятно обозначившийся гламурный (он же блестящий, он же галантный) век наблюдался во Франции времен Людовика XVI накануне известной революции. Принципиальное отличие Людовика XVI от Людовика XIV, при котором тоже было гламурно, заключалось в том, что при Людовике XIV у Франции было мощное государство и успешные войны. Роскоши тоже хватало, и этой роскошью питалась вся эстетика авантюрных романов от Дюма до Голонов. Но он и дело делал, а жена его, Мария-Терезия, не позволяла себе высказываний вроде: «Если у народа нет хлеба, пусть ест пирожные».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






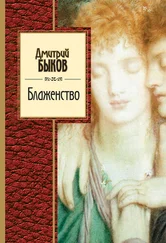

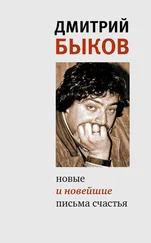
![Дмитрий Быков - Сны и страхи [Сборник]](/books/404306/dmitrij-bykov-sny-i-strahi-sbornik-thumb.webp)