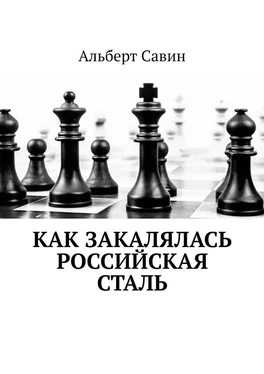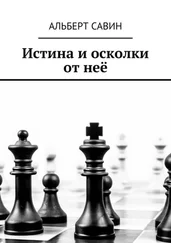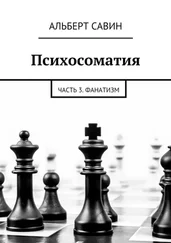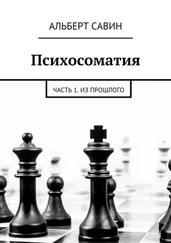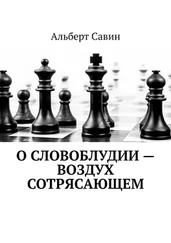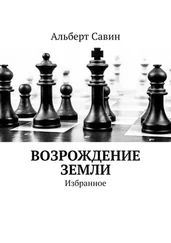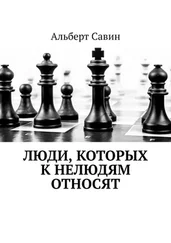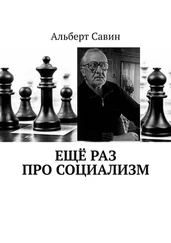Остались, однако, пышные дискуссии на высшем элитном уровне с шоу-спектаклями, за которыми не заметили, как землю-территорию – расчленили, природные ресурсы – расчленили, экономику и бюджет – расчленили, идеологию – расчленили, и сам российский народ принялись, как минимум, дезориентировать по четырём разным векторам правящих политических партий во главе регионов и на ответственных государственных постах.
Что ещё не успели расчленить к очередному юбилею Великой Победы?
Часть 3. Очнуться от вербальной эйфории!
3—1. А если проще – от благодушия
От благодушия, навеваемого щедрым потоком приятных слуху слов и наилучших пожеланий. Впрочем, каждый вправе спросить – а что же в этом плохого и предосудительного?
А в том, что в сознание людей веками внедрялся стереотип, по которому уверовали, что приятные слова и наилучшие пожелания – это уже, якобы, существенная прибавка ко всеобщему добру, а глубокая вера на-слово – весьма успешное продолжение этих начал. Да ничего – подобного!
Ибо по изначальной, естественно-природной сути, любое слово – есть всего лишь совокупность простейших звуков, предваряющих означаемые ими практические события. И сами по себе совершенно ничем не гарантирующие наступление событий, способных равным образом как состояться, так и состояться только частично, дибо не состояться вовсе. И в любом случае – как в пользу тех, кто внимает словам, так и в пользу авторов, ласкающих слух приятным словоблудием.
И, самое главное, желать огромного счастья, обещать или клясться сделать что-то – ничего не значит, не весит и не стоит ровно настолько, сколько значила бы, весила и стоила реальная мера сил, средств, жизненной энергии и воли, при воплощении слов в добрые дела. А имено в этом принципиальнейшая разница точно такая же, какая она между небом и землёй. Потому вербальный мир такой и щедрый на любовь и доброту.
Однако, будем объективны. Доброе слово действительно способно воодушевить, вдохновить и подвигнуть к энтузиазму на практические дела. Но сам заблудительный момент состоит в том, что, якобы, при этом происходит удесятирение жизненных сил.
А на самом деле имеет место мобилизация на десятикратную затрату и тех, что есть, при непременном условии адекватного восстановления затраченных – во избежание полной растраты физиологической энергии. Не обеспечение таких условий – и есть одна из скрытых форм неадекватной эксплуатации человека на энтузиазме своего труда.
Но, впрочем, достаточно вспомнить – насколько щедрый поток обрушился от Бомонда на обывателя – в предверии очередного, например, года Кролика – как символа пушистого добра и плодородия. А какого на самом деле: – покорного и послушного, или своенравного и убегающего, ушастого или лопоухого, понимающего или равнодушно-жующего, храброго или трусливого? Это же ещё разгадывать придётся – кто и какого имел в виду кролика.
Разве что – с ещё одной пробной верой в то, что хоть в этом году выдвинем чуть больше «ходоков» из народа во власть в лице подлинных хозяев своих слов и дел, чем традиционных обожателей щедрой политической фразеологии и различных шоу с псевдотеледебатами – в далеко не равный обмен на высшие полномочия по распоряжению огромными материальными ценностиями из природных богатств, трудовых ресурсов и финансовых потоков. А, по сути – по распоряжению судьбой народа, страны и государства!
3—2. О каких кричат правах?
Удивительнейшее дело, но с каждым днём всё упорнее насаждается стереотип о том, что заслугой реформации в «новой» России – явился полный переход к правам и свободам, на основе Всеобщей декларации прав человека.
Ну а что же такое декларация – по сути?
А по сути она и является тривиальным анонс-объявлением о том, что в чисто теоретической, словесно выраженной (вербальной) форме – найден некоторый идеал (образец) общечеловеческого права, к которому всего лишь д о л ж н о б ы у с т р е м л я т ь с я всем народам и государствам!
Но ведь именно в том, как» должно быть» и как устремляться к тому, как «должно быть» – и состоит разница, как между небом и землёй. И вербальные права от подлинных – тем и отличаются, что невозможно их осуществить никакими другими способами, кроме как реализацией сугубо материальных возможностей, обобщаемых денежным эквивалентом.
А если и удивляться, то только тому – почему же ни до мировой науки, ни до авторитетных мужей ООН, ни до национальных властей – не доходит, что права человека принципиально не могут не зависеть от уровня имущественно -материального состояния именно на т.н. свободном рынке
Читать дальше